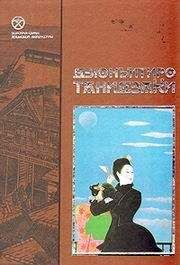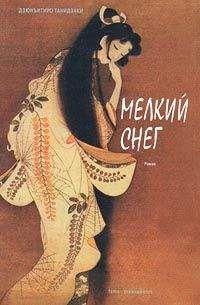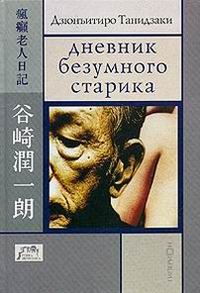— Хамада-кун, спасибо вам за совет, в ближайшие же дни я приму кое-какие меры… Если Наоми порвет с Кумагаем. — хорошо, если же нет, — я не останусь с ней ни одного дня…
— Но, пожалуйста, не бросайте Наоми-сан! — прервал меня Хамада. — Если вы бросите ее, она падет окончательно. Наоми-сан не виновата…
— Спасибо, спасибо. Я от всей души признателен вам за доброе отношение… Ведь я заботился о ней с пятнадцати лет, и я вовсе не хочу бросать ее, даже если надо мной будут смеяться… Она очень упряма, и я только думаю, как бы поделикатнее заставить ее порвать со своими дурными друзьями.
— Да, Наоми-сан очень упорна. Поссорится из-за пустяка — и уже нет возврата Вы должны действовать тонко. Я не вправе вам советовать, но…
— Спасибо, спасибо, — твердил я Хамаде.
Не будь между нами такой разницы в возрасте и в положении, и если бы раньше мы ближе знали друг друга, я, наверное, обнял бы его и заплакал. Во всяком случае, я был близок к этому.
— Хамада-кун, приходите к нам в гости почаще. Без стеснения! — сказал я ему, расставаясь.
— Да, но только в ближайшее время я навряд ли смогу прийти… — с некоторой запинкой сказал Хамада, потупившись, как бы избегая моего взгляда.
— Почему?
— Я приду, когда… когда смогу забыть Наоми-сан… — Стараясь скрыть слезы, он надел шляпу. — Прощайте, — бросил он мне и быстро зашагал по направлению к Синагаве.
Я отправился на службу, но все валилось у меня из рук. «Что сейчас делает Наоми? У нее остался только ночной халат, так что выйти она уж никак никуда не сможет…» — думал я и все-таки не мог быть спокоен: в последнее время одна неожиданность следовала за другой, я был обманут, вдвойне обманут, и по мере того, как я понял это, нервы мои пришли в возбужденное состояние, воображение рождало одно предположение за другим. Мне даже стало казаться, что Наоми обладает какой-то непонятной, таинственной силой, которую я не в состоянии постичь. Кто ее знает, что она сейчас делает? Спокойным я оставаться не мог. Быть может, во время моего отсутствия что-нибудь произошло… Кое-как, торопливо покончив с делами, я поспешно отправился в Камакуру.
— Здравствуйте, — сказал я, увидев стоящую в воротах хозяйку. — Она дома?
— Дома.
У меня отлегло от сердца.
— Никто не приходил?
— Нет, никто.
— Ну… Как там? — спросил я, кивком головы указывая на флигель. Мне показалось, что за закрытыми окнами комнаты Наоми нет никого.
— Сегодня она весь день сидела дома.
— Вот как?… Целый день не выходила из комнаты?…
Но все-таки почему же в доме уж слишком тихо?
Как она меня встретит? Немного встревоженный, я тихонько поднялся на веранду и раздвинул сёдзи. Было уже больше шести часов вечера. В полутемном углу, куда не доставал свет из окон, небрежно разметавшись, крепко спала Наоми. Сетка от москитов не была повешена. Вокруг бедер Наоми обернула мой макинтош, но он прикрывал только низ ее живота. Из-под красного халата высовывались ее белые, как кочан капусты, руки и ноги. В тот момент — увы! — я почувствовал, как странно и сладостно забилось мое сердце. Я молча зажег свет, переоделся в кимоно и нарочно с шумом хлопнул дверцей стенного шкафа. Не знаю, слыхала ли она этот звук или нет, но я по-прежнему слышал ее ровное сонное дыхание.
Я уселся за стол и сделал вид, будто что-то пишу; так прошло минут тридцать, наконец терпение мое иссякло:
— Встанешь ли ты? Ночь на дворе!
— Хм… — нехотя и сонно откликнулась она, после того как я несколько раз сердито крикнул:
— Вставай же!
— Хм… — снова пробормотала она, не поднимаясь.
— Что с тобой? Вставай!
Я поднялся и ногой толкнул ее в бок.
— А-а… — потянулась она. Вытянув обе руки со сжатыми маленькими розовыми кулачками и не спеша приподнявшись, Наоми, подавив зевоту, украдкой взглянула на меня и, отвернувшись, начала расчесывать следы укусов москитов на ступнях, икрах и спине. Оттого ли, что она слишком долго спала или плакала, глаза у нее покраснели, волосы беспорядочно свисали по плечам, как у привидения.
Я пошел к хозяйке, принес кимоно и бросил его Наоми.
— Вот твое кимоно, приведи себя в приличный вид! Она молча оделась. За ужином никто из нас не проронил ни слова.
Во время этого долгого и тягостного молчания я думал лишь о том, как бы заставить эту упрямицу признаться и просить прощения. В ушах у меня еще звучало предостережение Хамады: «Наоми упряма, если поссориться с ней, все будет кончено»… Наверное, этот совет подсказал ему собственный опыт, я и сам знал, что хуже всего — это рассердить ее. Нужно сделать все так искусно, чтобы она пошла на уступки и не произошло ссоры. Ни в коем случае не следует допрашивать ее как судья:
«Ты с Кумагаем то-то и то-то? С Хамадой — то-то и то-то?» Если начать так прямо давить на нее, она не из тех, кто оробеет и смиренно признается во всем. Она, конечно, начнет сопротивляться и упорно твердить, что знать ничего не знает… В конце концов, я тоже потеряю терпение и вспылю. Если это случится, всему конец. Следовательно, не стоит ее допрашивать. Лучше я сам начну говорить обо всем, что сегодня узнал. Как бы она ни была упорна, она не посмеет сказать, что ничего не знает. Так и сделаю, — решил я и начал:
— Сегодня в десять часов утра я заехал в Омори и застал там Хамаду.
Наоми вздрогнула и, стараясь не встречаться со мной глазами, запрокинула голову.
— Тем временем подошло время обеда, и я пригласил Хамаду в «Мацуаса». Мы пообедали вместе.
Наоми не отвечала. Я все время следил за выражением ее лица и старался говорить с ней без всякой злобы. До самого конца Наоми слушала, опустив голову. По ее виду никак нельзя было заметить, что она чувствует себя виноватой, она лишь сильно побледнела.
— Хамада мне все рассказал, так что мне не нужно тебя ни о чем спрашивать, я знаю все. Не отпирайся. Скажи только, что признаёшь себя виноватой. Этого мне достаточно. Ты признаёшь свою вину?
Наоми молчала.
— Ну, так как же, Наоми-тян? — спросил я ее как можно ласковее. — Если ты признаешь свою вину, я больше не буду тебя ни в чем упрекать. Я вовсе не требую, чтобы ты просила прощения. Мне довольно, если ты поклянешься, что впредь не допустишь таких «ошибок». Поняла? Признаёшь свою вину?
К счастью, Наоми кивнула головой.
— Поняла? Больше никогда не будешь встречаться с Кумагаем?
— Да.
— Наверное? Обещаешь?
— Да.
Таким путем мы пришли к соглашению, удовлетворившему нас обоих.
В ту ночь мы разговаривали в постели с Наоми, как будто ничего не случилось, но, по правде сказать, по-настоящему я ее не простил…
Наоми уже не чиста. Эта мысль не только мрачной тенью лежала у меня на душе, но больше чем наполовину лишала ценности мое сокровище — Наоми. А главная ее ценность заключалась в том, что я сам воспитал ее, сам сделал ее такой прекрасной женщиной, только один знал каждую частицу ее тела. Наоми была для меня как бы плодом, который я сам взрастил. Сколько усилий я потратил, как много труда вложил, чтобы сегодня она цвела так пышно! Отведать этот плод — такова была закономерная награда за этот труд, никому другому не могло принадлежать это право, и тем не менее пришел какой-то совсем чужой человек, очистил шкурку и надкусил плод. Плод осквернен, и, как бы Наоми ни молила о прощении, прошлого не вернуть. На ее теле, бывшем для меня святыней, навечно оставили грязный след два вора. Чем больше я думал, тем больше скорбел об этом. Я не испытывал ненависти к Наоми, я ненавидел то, что случилось.
— Дзёдзи-сан, простите меня, — совсем другим тоном, чем днем, сказала Наоми, видя, что я молча лью слезы.
Все еще плача, я кивнул. Можно сказать «прощаю», но нельзя вернуть прошлого и нельзя подавить чувства горечи от сознания, что этого прошлого не вернуть.
Так печально закончилось наше лето в Камакуре, и мы возвратились в Омори. На душе у меня не стало спокойнее, воспоминания иногда всплывали, и отношения наши не налаживались. Внешне мы отлично ладили, но в душе я, конечно, не простил Наоми. На службе меня по-прежнему не покидала мысль о Кумагае, Меня тревожило, что делает Наоми во время моего отсутствия, поэтому каждое утро, притворившись, будто иду на службу, я тихонько пробирался к черному ходу и в те дни, когда Наоми ходила на уроки английского и музыки, шел за ней следом, украдкой читал письма, приходившие на ее имя; постепенно я превратился в настоящего сыщика Наоми, конечно, в глубине души смеялась надо мной, она молчала, но стала удивительно неприветлива.
— Наоми, — сказал я ей однажды вечером, глядя на ее злое лицо и тряся ее за плечи, когда она притворялась спящей (теперь я называл ее просто Наоми, не добавляя «сан» или «тян»). — Что это?… Ты притворяешься спящей? Ты так меня ненавидишь?…
— Я вовсе не притворяюсь. Я собиралась заснуть и закрыла глаза.