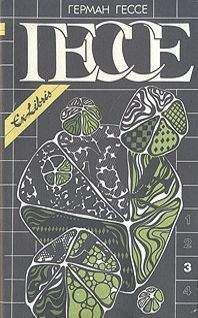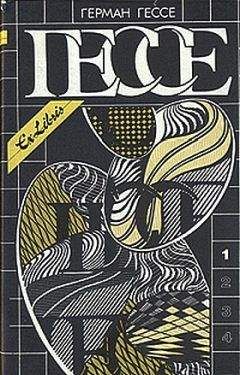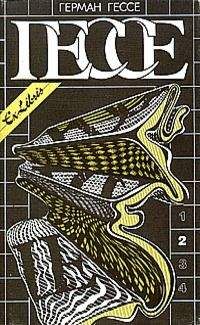Но он, должно быть, все-таки погрузился в полусон, потому что испугался и был поражен, когда почувствовал, что руки Виктора осторожно ощупывают его платье. В одном кармане у него был нож, в другом — дукат, то и другое Виктор непременно украл бы, если бы нашел. Он притворился спящим, повернулся туда-сюда как бы во сне, пошевелил руками, и Виктор отполз назад. Гольдмунд разозлился на Виктора, он решил завтра же отделаться от него.
Но когда через какой-нибудь час Виктор опять склонился над ним и начал его обыскивать, Гольдмунд похолодел от бешенства. Не пошевельнувшись, он открыл глаза и сказал с презрением:
— Убирайся, здесь нечего воровать.
Испугавшись крика, вор схватил Гольдмунда руками за горло. Когда же тот стал защищаться и хотел приподняться, тот сжал его горло еще крепче и одновременно встал ему коленом на грудь. Гольдмунд, чувствуя, что не может больше дышать, рванулся и сделал резкое движение всем телом, а не освободившись, ощутил вдруг смертельный страх, сделавший его умным и сообразительным. Он сунул руку в карман, в то время как рука Виктора продолжала его душить, достал маленький охотничий нож и воткнул его внезапно и вслепую несколько раз в склонившегося над ним противника. Через мгновение руки Виктора разжались; глотнув воздуха, глубоко и бурно дыша, Гольдмунд возвращался к жизни. Он попытался встать, его долговязый спутник со страшным стоном перекатился через него, расслабленный и размякший, кровь его брызнула Гольдмунду в лицо. Только теперь он смог подняться. Тут он увидел в сумеречном свете распростертое во всю длину тело; когда он дотронулся до него, вся рука оказалась в крови. Он поднял его голову — тяжело и мягко, как мешок, она упала назад. Из груди и горла все еще шла кровь, изо рта вырывались последние вздохи жизни, невнятные и слабеющие.
«Я убил человека», — подумал Гольдмунд и продолжал думать об этом все время, стоя на коленях перед умирающим, и видел, как по его лицу разливается бледность.
— Матерь Божья, вот я стал убийцей, — услышал он собственный голос.
Ему стало невыносимо оставаться здесь. Он взял нож, вытер его о шерстяную, связанную Лидией для любимого, фуфайку, надетую на другом, убрал нож в деревянные ножны, положил в карман, вскочил и помчался что было сил прочь.
Тяжелым бременем лежала смерть веселого ваганта у него на душе; когда настал день, он с отвращением стер с себя снегом всю кровь, которую пролил, и еще день и ночь бесцельно блуждал в страхе. Наконец телесные потребности заставили его встряхнуться и положить конец исполненному страха раскаянию.
Блуждая по пустынной заснеженной местности без крова, без дороги, без еды и почти без сна, он попал в крайне бедственное положение: как дикий зверь терзал его тело голод, несколько раз он в изнеможении ложился прямо среди поля, закрывал глаза, желая только заснуть и умереть в снегу. Но что-то снова поднимало его, он отчаянно и жадно цеплялся за жизнь, и в самой горькой нужде пробивалась и опьяняла его безумная сила и буйное нежелание умирать, невероятная сила голого инстинкта жизни. С заснеженного можжевельника он обрывал посиневшими от холода руками маленькие засохшие ягоды и жевал эту хрупкую жалкую пищу, смешанную с еловыми иголками, возбуждающе острую на вкус, утолял жажду пригоршнями снега. Из последних сил дуя в застывшие руки, сидел он на холме, делая короткую передышку, жадно смотря во все стороны, но не замечая ничего, кроме пустоши и леса; нигде не видно было ни следа человека. Над ним летало несколько ворон, зло следил он за ними взглядом. Нет, они не получат его на обед, пока есть остаток сил в его ногах, хотя бы искра тепла в его крови. Он встал, и снова начался неумолимый бег наперегонки со смертью. Он бежал и бежал, и в лихорадке изнеможения и последних усилий им овладевали странные мысли, и он вел безумные разговоры то про себя, то вслух. Он говорил с Виктором, которого заколол, резко и злорадно говорил ему:
— Ну, ловкач, как поживаешь? Луна просвечивает тебе кишки, лисицы дергают за уши? Говоришь, волка убил? Что ж, ты ему глотку перегрыз или хвост оторвал, а? Хотел украсть мой дукат, старый ворюга! Да не тут-то было, маленький Гольдмунд поймал тебя, так-то, старик, пощекотал я тебе ребра! А у самого еще полны карманы хлеба, и колбасы, и сыра. Эх ты, свинья, обжора!
Подобные речи выкрикивал он, ругая убитого, торжествуя над ним, высмеивая его за то, что тот дал себя убить, — рохля, глупый хвастун!
Но потом его мысли и речи оставили в покое бедного долговязого Виктора. Он видел теперь перед собой Юлию, красивую маленькую Юлию, как она покинула его в ту ночь; он кричал ей бесчисленные ласковые слова, безумными бесстыдными нежностями пытался соблазнить ее, только бы она пришла, сняла рубашку, отправилась бы с ним на небо за час до смерти, на одно мгновение, перед тем как ему издохнуть. Умоляюще и вызывающе говорил он с ее маленькой грудью, с ее ногами, с белокурыми курчавыми подмышками.
И снова брел он, спотыкаясь, через заснеженную сухую осоку, опьяненный горем, чувствуя торжествующий огонь жизни. Он начинал шептать; на этот раз он беседовал с Нарциссом, сообщая ему свои мысли, прозрения и шутки.
— Ты боишься, Нарцисс, — обращался он к нему, — тебе жутко, ты ничего не заметил? Да, глубокоуважаемый, мир полон смерти, она сидит на каждом заборе, стоит за каждым деревом, и вам не помогут ваши стены, и спальни, и часовни, и церкви, она заглядывает в окна, смеется, она прекрасно знает каждого из вас, среди ночи слышите вы, как она смеется под вашими окнами, называя вас по именам. Пойте ваши псалмы, и жгите себе свечи у алтаря, и молитесь на ваших вечернях и заутренях, и собирайте травы для аптеки и книги для библиотеки! Постишься, друг? Недосыпаешь? Она-то тебе поможет, безносая, лишит всего, до костей. Беги, дорогой, беги скорей, там в поле уже гуляет смерть, собирайся и беги! Бедные наши косточки, бедное брюхо, бедные остатки мозгов! Все исчезнет, все пойдет к черту, на дереве сидят вороны, черные попы.
Давно уже блуждал он, не зная, куда бежит, где находится, что говорит, лежит он или стоит. Он падал, споткнувшись о куст, натыкался на деревья, хватался, падая на снег, за колючки. Но инстинкт в нем был силен, все снова и снова срывал он его с места, увлекая и гоня, слепо мечущегося, все дальше и дальше. В последний раз он, обессиленный, упал и не поднялся в той самой деревне, где несколько дней назад встретил странствующего студента, где ночью держал лучину над роженицей. Тут он остался лежать; сбежались люди, и стояли вокруг него, и болтали. Он уже ничего не слышал. Женщина, любовью которой он тогда насладился, узнала его и испугалась его вида; сжалившись над ним, она, предоставив мужу браниться, притащила полумертвого в хлев.
Прошло немного времени, и Гольдмунд опять был на ногах и мог отправляться в путь. От тепла в хлеву, от сна и от козьего молока, которое давала ему женщина, он пришел в себя, и к нему вернулись силы, а все только что пережитое отодвинулось назад, как будто с тех пор прошло много времени. Поход с Виктором, холодная жуткая ночь под елями, ужасная борьба на ложе, страшная смерть спутника, дни и ночи замерзания, голода и блужданий — все это стало прошлым, как будто почти забытым; но забытым это все-таки не было, только пережитым, только минувшим. Что-то осталось, невыразимое, что-то ужасное и в то же время дорогое, что-то опустившееся на дно души и все-таки незабвенное — опыт, вкус на языке, рубец на сердце. Меньше чем за два года он, пожалуй, основательно познал все радости и горести бездомной жизни: одиночество, свободу, звуки леса и мира животных, бродячую неверную любовь, горькую смертельную нужду. Сколько времени пробыл он гостем в летних полях, в лесу, в смертельном страхе и рядом со смертью; и самым сильным, самым странным было желание противостоять смерти и, сознавая свою ничтожность и беззащитность перед угрозами, в последней отчаянной борьбе со смертью все-таки чувствовать в себе эту прекрасную, страшную силу и цепкость жизни. Это звучало в нем, это запечатлелось в его сердце так же, как жесты и выражения страсти, столь похожие на те, что бывают у роженицы и умирающего. Совсем недавно видел он, как меняется лицо роженицы, совсем недавно погиб Виктор. О, а он сам, как чувствовал он во время голода подкрадывающуюся со всех сторон смерть, как мучился от голода, а как мерз! И как он боролся, как водил смерть за нос, с каким смертельным страхом и с какой яростной страстью он защищался! Больше этого, казалось ему, уже нельзя пережить. С Нарциссом можно было бы поговорить об этом, больше ни с кем.
Когда Гольдмунд на своем соломенном ложе в хлеву в первый раз пришел в себя, он не нашел в кармане дуката. Неужели он потерял его в последний день во время страшного полусознательного голодного блуждания? Долго размышлял он об этом. Дукат был ему дорог, он не хотел мириться с его потерей. Деньги для него мало значили, он едва знал им цену. Но золотая монета имела для него значение по двум причинам. Это был единственный подарок Лидии, сохранившийся у него, потому что шерстяная фуфайка осталась в лесу на Викторе, пропитанная кровью. А потом ведь прежде всего из-за монеты, которой он не желал лишаться, из-за нее он защищался от Виктора, из-за нее вынужден был убить его. Если дукат потерян, то в какой-то мере все переживание той ужасной ночи становилось бессмысленным и никчемным. Размышляя таким образом, он решил довериться хозяйке.