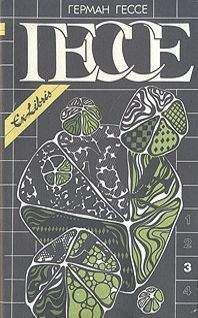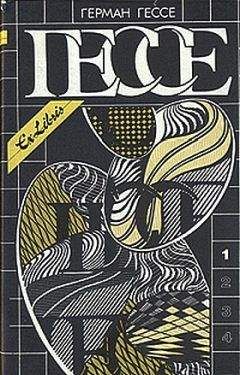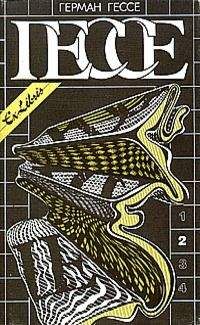— Кристина, — сказал он ей шепотом, — у меня была золотая монета в кармане, а теперь ее там нет.
— Так-так, заметил? — сказала женщина с удивительно милой и одновременно лукавой улыбкой, столь восхитившей Гольдмунда, что он, несмотря на слабость, обнял ее.
— Какой же ты чудак, — сказала она с нежностью, — такой умный да обходительный и такой глупый! Разве бегают по свету с дукатом в открытом кармане? Ох, дитя малое, дурачок ты мой милый! Монету твою я нашла сразу же, когда укладывала тебя на соломе.
— Нашла? А где же она?
— Ищи, — засмеялась она и действительно заставила его довольно долго искать монету, прежде чем показала место в куртке, где она была надежно зашита. Она надавала ему при этом кучку добрых материнских советов, которые он скоро забыл, но ее дружескую услугу и лукавую улыбку на добром крестьянском лице не забывал никогда. Он постарался выказать ей свою благодарность, а когда вскоре опять был способен идти дальше, она задержала его, так как в эти дни менялась луна, и погода, конечно, должна была смягчиться. Так оно и было. Когда он отправился дальше, снег лежал серый и больной, а воздух был тяжел от сырости, в вышине слышались стоны теплого влажного ветра.
Снова тающие снега гнали реки вниз, снова из-под прелой листвы пахло фиалками, снова брел Гольдмунд сквозь пестрые времена года, впиваясь ненасытными глазами в леса, горы и облака, от двора к двору, от деревни к деревне, от женщины к женщине; сидел иной раз прохладным вечером, измученный, с болью в сердце, под окном, за которым горел свет и из красноватого отсвета которого мило и недостижимо сияло все, что на земле называется счастьем, домом, миром. Снова и снова приходило все, что он, казалось, давно так хорошо уже знает, все приходило снова и было каждый раз другим: долгий путь по полям и пустошам или по каменной дороге, летние ночевки в лесу, медленное приближение к деревням за рядами молодых девушек, возвращавшихся домой с сенокоса или сбора хмеля, первые осенние дожди, первые злые морозы — все возвращалось, раз, два раза, нескончаемо двигалась перед его глазами пестрая лента.
Не раз лил дождь, и не раз шел снег, а однажды, поднявшись редким буковым лесом с уже светло-зелеными почками, Гольдмунд увидел с высоты гребня холма местность, которая порадовала его глаз и пробудила в сердце поток предчувствий, желаний и надежд. Уже несколько дней он ощущал приближение этой местности, и все-таки она поразила его в этот полуденный час, и то, что он увидел при первой встрече, только подтвердило и укрепило его ожидания. Он смотрел вниз сквозь стволы с едва колышущимися ветвями, на зелено-коричневую дымку, посередине которой блестела, как стекло, широкая голубоватая река. Отныне, он был в этом уверен, будет надолго покончено с блужданием без дороги через пустоши, леса и глухие места, где едва встретишь двор или бедную деревеньку. Там, внизу, катилась река, а вдоль реки проходили самые знаменитые, самые главные дороги, там лежала богатая сытая страна, плыли плоты и лодки, и дорога вела в большие деревни, замки, монастыри и богатые города, и кому хотелось, тот мог путешествовать по этой дороге сколько угодно, не боясь, что она, подобно жалким деревенским тропинкам, вдруг затеряется где-нибудь в лесу или в болоте. Начиналось что-то новое, и он радовался этому.
Уже к вечеру того же дня он был в большом селе, расположенном между рекой и виноградниками на холмах у большой проезжей дороги, красивые ставни окон на домах с фронтонами были выкрашены в красное, здесь были сводчатые въездные ворота и мощеные ступенчатые улочки, из кузницы вырывались красные отблески пламени и слышались звонкие удары по наковальне. С любопытством бродил вновь прибывший по всем уголкам и закоулкам, вдыхал запах бочек и вина у винных погребов, а на берегу реки — запах прохлады и рыбы, осмотрел храм и кладбище, не преминул приглядеть и подходящий сарай для ночлега. Но сначала он хотел попытаться попасть на довольствие в дом священника. Тучный рыжий священник расспросил его, а он, кое-что опустив и кое-что присочинив, рассказал свою жизнь; после этого он был любезно принят и весь вечер провел за добрым ужином с вином в долгих разговорах с хозяином. На другой день он пошел дальше по дороге вдоль реки. Видел плывущие плоты и баржи, обгонял повозки, иногда его немного подвозили; быстро пролетали весенние дни, переполненные впечатлениями, его принимали в деревнях и маленьких городишках, женщины улыбались у изгороди или, наклонившись к земле, сажали что-то, девушки пели по вечерам на деревенских улочках.
На одной мельнице ему так понравилась молодая работница, что он на два дня задержался, обхаживая ее; она смеялась и охотно болтала с ним; ему казалось, что лучше всего было бы навсегда остаться здесь и стать работником на этой мельнице. Он сидел с рыбаками, помогал возничим кормить и чистить лошадей, получая за это хлеб, и мясо, и разрешение ехать вместе с ними. После долгого одиночества это постоянное общение в пути, после долгих тягостных размышлений веселые разговоры с довольными людьми, после долгого недоедания ежедневная сытость — все это благотворно действовало на него, он охотно отдавался счастливой волне. Она несла его с собой, и чем ближе он подходил к городу, тем многолюдней и веселее становилась дорога.
В одной деревне он шел как-то уже в сумерках, прогуливаясь вдоль реки под деревьями, уже покрытыми листвой. Спокойно и величаво катилась река, у корней деревьев плескалась, вздыхая, вода, над холмом всходила луна, бросая свет на реку и погружая в тень деревья. Тут он увидел девушку, она сидела и плакала, повздорив с любимым, теперь вот он ушел, оставил ее одну: Гольдмунд подсел к ней и, выслушивая жалобы, гладил ее по руке, рассказывал про лес и про ланей, утешил ее немного, немного посмешил, и она позволила себя поцеловать. Но тут за ней явился ее возлюбленный: он успокоился и сожалел о ссоре. Увидев Гольдмунда возле нее, он кинулся на того с кулаками, Гольдмунду удалось в конце концов справиться с ним; с проклятиями парень побежал в деревню, девушка скрылась давно. Гольдмунд же, не доверяя наступившему миру, оставил свое убежище и полночи шел дальше в лунном сиянии через серебряный безмолвный мир, очень довольный, радуясь своим сильным ногам, пока роса не смыла белую пыль с его башмаков.
Ощутив наконец усталость, он лег под ближайшим деревом и уснул. Давно уже был день, когда он проснулся, почувствовав, что его что-то щекочет по лицу; еще сонный, он отмахнулся, шлепнув себя рукой, и заснул опять, но вскоре был разбужен вновь тем же щекотанием; перед ним стояла крестьянская девушка, смотрела на него и щекотала концом ивового прутика. Он поднялся шатаясь, с улыбкой они кивнули друг другу, и она отвела его в сарай, где было лучше спать. Они поспали какое-то время там друг возле друга, потом она убежала и вернулась с ведерком еще теплого коровьего молока. Он подарил ей голубую ленту для волос, которую недавно нашел на улице и спрятал у себя, они поцеловались еще раз, прежде чем он пошел дальше. Ее звали Франциска, ему было жаль расставаться с ней.
Вечером того же дня он нашел приют в монастыре, утром был на мессе; причудливой волной прокатились в его душе тысячи воспоминаний, трогательно, по-родному пахнуло на него прохладным воздухом каменного свода, и послышалось постукивание сандалий о каменные плиты переходов. Когда месса кончилась и в церкви стало тихо, Гольдмунд все еще стоял на коленях, его сердце было странно взволновано, ночью ему снилось много снов. У него появилось желание как-то избавиться от впечатлений прошлого, как-то переменить жизнь, он не знал почему, возможно, то было лишь напоминание о Мариабронне и его благочестивой юности, так тронувшее его. Он почувствовал необходимость исповедаться и очиститься; во многих мелких грехах, во многих мелких провинностях нужно было покаяться, но тяжелее всего давила вина за смерть Виктора, который умер от его руки. Он нашел патера, которому исповедался о том о сем, но особенно об ударах ножом в горло и спину бедного Виктора. О, как же давно он не исповедовался! Количество и тяжесть его грехов казались ему значительными, он готов был прилежно искупить их. Но исповедник, похоже, знал жизнь странников; он не ужаснулся, спокойно выслушав, серьезно, но дружелюбно пожурил и предостерег без особых осуждений.
Облегченно поднялся Гольдмунд, помолился по предписанию патера у алтаря и собирался уже выйти из церкви, когда солнечный луч проник через одно из окон; он последовал за ним взглядом и увидел в боковом приделе стоящую фигуру, она показалась ему такой привлекательной, так притягивала к себе, что он повернулся к ней любящим взором и долго рассматривал ее, полный благоговения и глубокого волнения. Это была Божья Матерь из дерева, Она стояла, склонившись нежно и кротко. И как ниспадал голубой плащ с Ее узких плеч, и как была протянута нежная девичья рука, и как смотрели над скорбным ртом глаза и высился прелестный выпуклый лоб — все было так живо, так прекрасно и искренне воодушевленно, что ему казалось, он никогда такого не видел. Этот рот, это милое, естественное движение шеи! Он смотрел и не мог наглядеться. Как будто перед ним стояло то, что он часто и уже давно видел в грезах и предчувствовал, к чему нередко стремился в тоске. Несколько раз порывался он уйти, но его опять тянуло обратно.