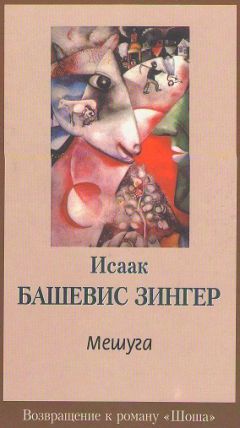Лодка плыла к пристани. Герман и Маша вышли на берег. Дойдя до бунгало, они улеглись на кровать и накрылись шерстяным одеялом. Они лежали друг рядом с другом, две души, отстранившиеся от Бога. Маша закрыла глаза. Было непонятно, дремлет она или думает. Потом ее глаза словно заулыбались под веками. Губы начали что-то бормотать. Герман пристально рассматривал Машу: знает ли он ее? Даже изгибы ее тела были ему неизвестны. Он и вправду никогда не изучал форму ее носа, подбородка, лба. А что происходит в этой голове? Маша вздрогнула и села:
— Я только что видела отца…
Она немного помолчала, подумала, а потом спросила:
— Какое сегодня число?
Герман подсчитал дату.
— Уже почти семь недель у меня не было гостей, — сказала Маша.
Герман не сразу понял, о чем она говорит. Все его женщины называли период менструаций по-разному, праздники, дни, период, месячные… Герман встревожился и попытался посчитать.
— У тебя, наверное, задержка.
— У меня не бывает задержек. Во всем я ненормальная, а тут нормальная на сто процентов.
Герман замолчал.
— Сходи к доктору.
— Они так сразу не определят. Я подожду еще недельку. Здесь аборт стоит долларов пятьсот. — Маша сменила тон: — И к тому же это опасно. Женщина, работавшая в кафетерии, умерла в течение нескольких часов. Получила заражение крови — и все. Это страшная смерть. Что будет с мамой, если я соберусь на тот свет?
— Не думай сразу о плохом. Ты еще не умираешь.
— От жизни до смерти один шаг. Я видела, как умирают, и я знаю. Подожди, схожу за сигаретой.
Маша встала с кровати и закурила. Она подошла к окну, открыла занавеску и выглянула, затем вернулась к Герману.
— Папа еще никогда не выглядел таким живым, как сегодня. Он сказал мне «мазл-тов», и поэтому…
— Ты хочешь ребенка?
— Незаконного? Не хочу!
— Нет незаконных детей.
— В книгах, может, и нет, а в жизни, если незаконный, значит — незаконный. Недалеко от нас живет женщина с ребенком, на него все показывают пальцем и обзывают его.
— Не надо жить на той же улице.
— Герман, может быть, и можно спрятаться от Бога, но от людей не спрячешься! Даже на сеновале нельзя отлеживаться вечно!
Маша повернулась в постели. Она не сидела и не лежала, но оперлась головой о спинку кровати, смотрела перед собой и улыбалась. Вскоре улыбка исчезла, лишь в углу рта остался ее след.
— Не дрожи, дорогой, я тебе ребеночка не подброшу, — сказала Маша.
VII
К ужину раввин, по-видимому, запасся новыми шутками. Он сыпал анекдотами, женщины смеялись. Студенты-официанты с грохотом ставили тарелки на стол. Сонные дети отказывались есть, а мамы били их по рукам. Какая-то новоприбывшая женщина отослала свою порцию обратно на кухню, и повар пытался ей возразить: «Гитлер вас лучше кормил?»
После ужина все отправились в клуб, который находился в перестроенном сарае. Еврейский поэт произнес речь, прочитал стихи, одобрительно отозвался о Сталине. Артистка показала пародию на известных актеров и актрис, она плакала, смеялась, кричала, жестикулировала. Женщины и девушки заходились от смеха.
«Почему все это меня не веселит? Почему это для меня так болезненно?» — спрашивал себя Герман. В этом клубе все превращалось в фарс: цель сотворения мира, избранность народа Израиля, смысл страданий. Через открытую дверь залетали мухи и мотыльки, привлеченные тусклыми лампами и ослепленные искусственным дневным светом. Немного покружив, они падали замертво, обжегшись о лампу или размазанные по стене ударом мухобойки.
Герман огляделся и увидел, что Маша с кем-то танцует. Огромный мужчина в неопрятной рубашке и зеленых шортах, открывающих его волосатые ноги, держал Машу за талию, а она пыталась дотянуться рукой до его плеча. Один официант дудел на тромбоне, другой стучал на барабане, третий дул в инструмент, похожий на дырявый горшок.
Герман понимал, что Маша расстроится, но больше не мог здесь оставаться. Стояла темная звездная ночь, безлунная и по-северному холодная. Герман снова отправился по той же дороге, но в обратном направлении. Квакали лягушки, стрекотали кузнечики, падали метеориты. Клуб постепенно удалялся, уменьшался, превращаясь в светлячка.
С тех пор как Герман отправился в отпуск с Машей, он ни минуты не оставался один. Теперь он шел размеренным шагом и в который раз осознавал, что, сколько ни анализируй, его действия невозможно свести к логической схеме. При всем своем пессимизме Маша сохраняла в себе женские инстинкты: она хотела мужа, детей, семью, ей нравились музыка, театр, развлечения. Германа же одолевала печаль, от которой невозможно избавиться. Он, Герман, не был жертвой Гитлера, он стал жертвой еще до Гитлера.
Герман дошел до сгоревшего дома, остановился и зашел внутрь. Можно ли здесь перезимовать? Он стоял среди обугленных стен, вдыхая запах старого пожарища. Нет, он больше не способен подыгрывать, хохотать, подпевать, танцевать, как все. Он боится смерти и при этом тоскует по тишине, по божественному покою. В дыре, которая служила когда-то окном, темнело небо — папирус, полный иероглифов, неразрешимая и терзающая ум загадка. Герман остановил взгляд на трех звездах, расположившихся по диагонали, подобно огласовке «куббуц»[69]. Он разглядывал эти три солнца. У каждого из них; вероятно, были свои планеты, свои кометы, свои космические особенности. Как странно, что кусок плоти, заключенный в череп, может видеть такие далекие предметы! Как странно, что сосуд с мозгом способен постоянно удивляться и никак не может прийти к окончательному ответу! Все они молчали: Бог, звезды, мертвые. А говорящие всегда говорят впустую…
Когда Герман вернулся, в клубе уже было темно. Представление и танцы уже закончились. Здание, только что полное суеты, теперь стояло в тишине, в темноте, погруженное в собственные размышления, свойственные всем неодушевленным предметам.
Герман принялся искать бунгало, заранее зная, что это будет непросто. Он плохо ориентировался всегда и везде: в городах, в деревнях, на кораблях и в гостиницах. Один фонарь горел при входе в здание, в котором находился офис, но внутри никого не было.
Шальная мысль пронеслась в голове у Германа: а что, если Маша ушла спать к танцору в зеленых шортах? Это, конечно, маловероятно, но нынче все может произойти в среде людей, разочарованных во всех своих ожиданиях и лишенных веры. Что такое светская культура, как не убийство и не проституция? Что представляет собой сам Герман, как не клубок желаний и жажды приключений?
Дверь открылась, и Герман услышал Машин голос. Должно быть, она увидела его из окна. Маша крикнула:
— Куда ты убежал? — и расплакалась.
Герман боялся, что этой ночью не сможет уснуть, но как только он положил голову на подушку, его охватил сон. Маша отодвинулась от Германа и повернулась к нему спиной. В его голове промелькнула последняя мысль, и все пропало. Открыв глаза, Герман не знал, как долго он проспал: один час или шесть. В бунгало стояли густые сумерки, было по-зимнему холодно. Маша не лежала, а сидела на кровати. В темноте ее лицо было подобно бледному пятну, глаза светились своим собственным светом.
— Ты не спишь? — спросил Герман.
Маша немного помолчала.
— Герман, я боюсь операции! — отозвалась она хриплым взволнованным голосом.
Герман не сразу понял, о чем она говорит.
— Ах да.
— Может, Леон даст мне развод. Я поговорю с ним в открытую. Если он откажется от развода, ребенок будет носить его имя.
— Ты знаешь, что я не могу развестись с Ядвигой.
Маша простонала и крикнула одновременно:
— Ах, ты не можешь? Английский король, когда хотел жениться на своей возлюбленной, отказался от трона[70], а ты не можешь освободиться от этой невежи? Никакой закон не заставляет тебя жить с ней. В худшем случае будем платить ей алименты. Я буду работать сверхурочно и платить. И не думай, что я верю в институт брака и во всю эту бессмыслицу. Я слишком много повидала, чтобы всерьез воспринимать венчание или обручальное кольцо, но мама верит в это. Я тебе об этом не рассказывала, но она ест меня заживо. И себя ест. Она твердит: лучше бы я погибла в лагерях, чем терпеть такой позор. Теперь, если будет еще ребенок в придачу, она долго не протянет.
— Не должно быть никакого ребенка!
— Не должно быть? А может, я тоже еще хочу прожить пару лет? Мне стыдно за тебя и твои слова!
— Ты же знаешь, что развод убьет Ядвигу!
— Что? Я ни о чем не знаю. И потом, ты обручился у раввина с этой паршивкой?
— У раввина? Нет.
— Тогда как? Просто расписались?
— У нас гражданский брак.
— По еврейскому закону это браком не считается. Венчайся со мной. Мне не нужны американские бумажки.
— Никакой раввин не будет венчать без свидетельства о браке. Здесь Америка, а не Польша.