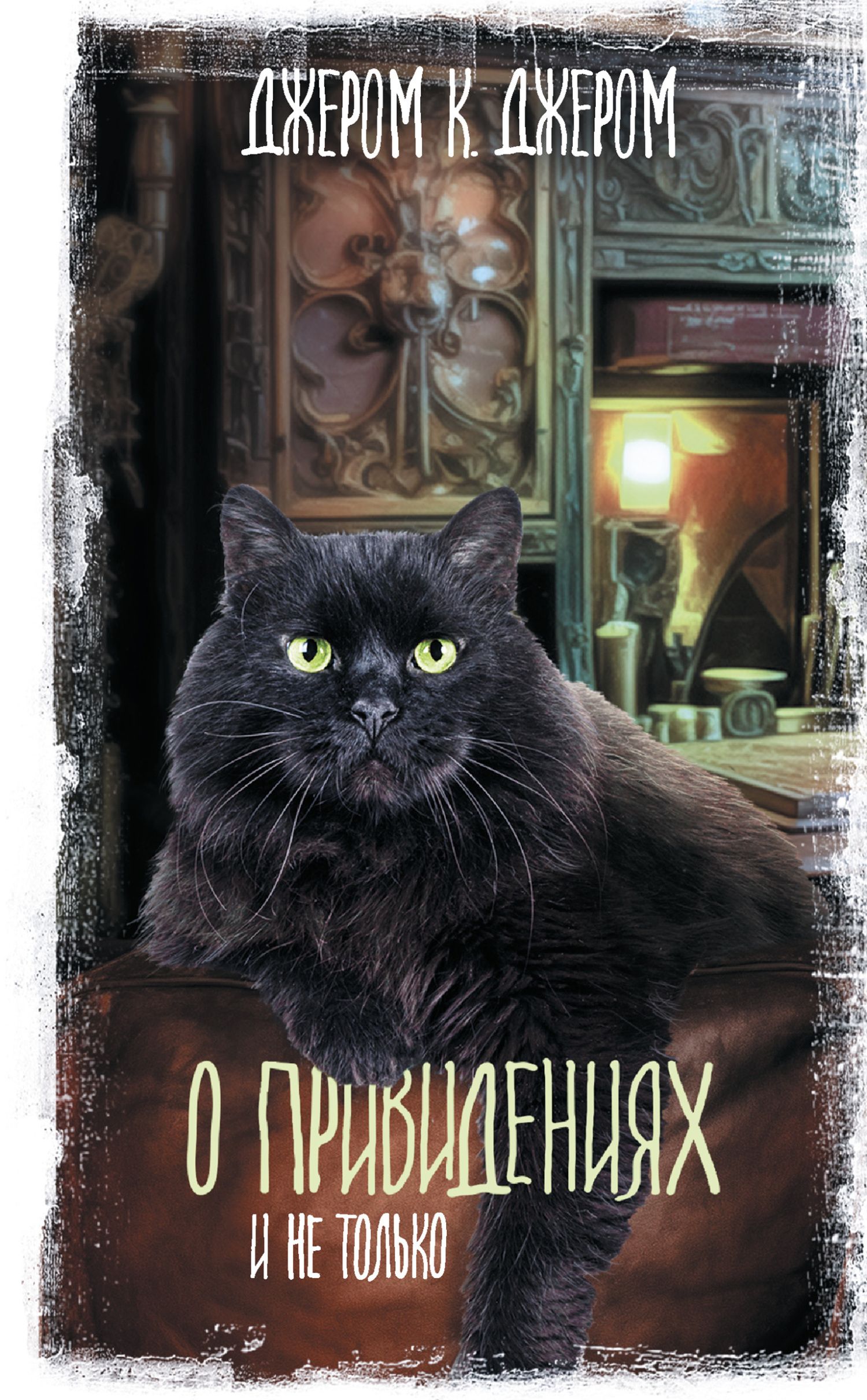и коротко хохотнул, – по которым мне не захотелось брать с собой помощников. Если вы не прочь подзаработать, пожить за чужой счет в шикарном отеле да еще положить в карман десятифунтовую купюру, вам представится такая возможность – всего за два часа работы в день.
Видимо, согласие отразилось у меня на лице, потому что он не стал ждать, когда я отвечу.
– Только одно правило я потребую соблюдать неукоснительно – это не лезть не в свое дело и держать язык за зубами. Вы путешествуете один?
– Да, – кивнул я.
Он написал что-то в блокноте, вырвал лист и протянул его мне.
– Это адрес вашего отеля в Антверпене. Вы секретарь мистера Хорейшо Джонса. – Повторяя имя, которое явно не подходило ему, он хмыкнул. – Завтра утром, в девять, постучитесь ко мне в гостиную. Доброй ночи!
Он завершил разговор так же внезапно, как и начал, и удалился к себе в каюту.
На следующее утро я мельком увидел его выходящим из дирекции отеля. Он беседовал с управляющим по-французски и, видимо, давал распоряжения на мой счет, потому что вскоре передо мной возник подобострастный портье и провел в чудесный номер на втором этаже, а позднее в кофейной комнате мне предложили «английский завтрак» таких размеров и содержания, какими в те времена я радовал себя не часто. Мой спутник не обманул и в том, что касалось работы. Мне почти всегда хватало на нее двух утренних часов. Обязанности заключались главным образом в написании писем и отправке телеграмм. Письма он подписывал и отправлял сам, поэтому за две недели я так и не узнал его настоящего имени, но в остальном собрал достаточно сведений, чтобы понять: мой работодатель – человек с поразительно широкими деловыми интересами и связями по всему миру.
Он так и не познакомил меня с «миссис Хорейшо Джонс», а когда через несколько дней она ему наскучила, роль его компаньона во время дневных поездок начал играть я.
Не испытывать симпатии к этому человеку было невозможно. Сила неизменно вызывает у юности прилив обожания, а в нем чувствовалось нечто значительное и героическое. Он был дерзким, молниеносно принимал решения, был абсолютно чужд щепетильности, при необходимости становился безжалостным. Не составляло труда вообразить, как в древности он повелевал бы ордами дикарей, ввязывался в схватки ради возможности подраться, с яростной готовностью бросался преодолевать любые препятствия, пробивал себе дорогу вперед, безразличный к бедствиям и разрушениям, причиняемым этим прогрессом, ни на секунду не сводил глаз со своей цели, но вместе с тем имел представление о примитивной справедливости и не был лишен добросердечия, когда без опасений мог его себе позволить.
Однажды днем он взял меня с собой в еврейский квартал Амстердама и, уверенно прокладывая дорогу в лабиринте неприглядных трущоб, остановился перед узким трехэтажным домом, обращенным к какому-то затону со стоячей водой.
– Я родился вон в той комнате, – сообщил он. – С разбитым окном, на втором этаже. Стекло так и не вставили.
Я украдкой взглянул на него: на лице моего спутника не отражалось никаких сентиментальных чувств, ничего, кроме насмешки. Он предложил мне сигару, которую я с радостью принял, так как вонь сточных вод за нашей спиной невероятно раздражала. Некоторое время мы курили молча, он – с полузакрытыми глазами, как всегда, когда обдумывал деловые вопросы.
– Любопытно, что я сделал именно такой выбор, – наконец заметил он. – Подручный мясника – для моего отца, и чахлый метальщик петель – для матери. Видимо, я знал, на что гожусь. И как выяснилось, поступил правильно.
Я уставился на него, не зная, серьезно он говорит или демонстрирует пристрастие к черному юмору. Временами его реплики звучали странно. В нем таилась удивительная жила, которая время от времени выходила на поверхность, изумляя меня.
– Довольно рискованный шаг, – отозвался я. – В следующий раз лучше предпочесть что-нибудь более надежное.
Он внимательно посмотрел на меня, и поскольку определить, в каком он настроении, я не сумел, то придал своему лицу предельную серьезность.
– Пожалуй, вы правы, – согласился он со смехом. – Об этом мы еще поговорим когда-нибудь.
После визита на Гоортгассе он стал вести себя в моем присутствии менее сдержанно, часто заводил разговоры о предметах, об интересе к которым с его стороны я и не подозревал. В нем я нашел любопытную мешанину свойств. Сквозь маску проницательного и циничного дельца порой проглядывал мечтатель.
Мы расстались в Гааге. Он оплатил мне обратный билет до Лондона и дал еще фунт на дорожные расходы – вместе с обещанной десятифунтовой купюрой. «Миссис Хорейшо Джонс» он отослал несколькими днями ранее – полагаю, к облегчению обоих, – а сам собирался в Берлин. Я думал, что больше никогда не увижусь с ним, хотя в последующие несколько месяцев часто вспоминал о нем и даже пытался навести о нем справки в Сити. Но опереться в расспросах мне было почти не на что, и после того как Фенчерч-стрит осталась для меня в прошлом, а я занялся литературой, своего бывшего спутника я забыл.
Пока однажды не получил письмо, присланное на адрес моего издателя. На нем была швейцарская марка, и я, распечатав письмо и взглянув на подпись, поначалу не понял, кто такой «Хорейшо Джонс» и где мы с ним познакомились. А потом вспомнил.
Он лежал, весь изломанный и разбитый, в хижине дровосека на склоне Юнгфрау. Как он сам выражался, он заморочил самому себе голову, считая, что ему под силу заняться альпинизмом, невзирая на возраст. Как только представилась возможность, его перенесли в более безопасное место, в Лаутербруннен, но поговорить там по-прежнему было не с кем, если не считать сиделки и врача-швейцарца, раз в три дня совершающего восхождение на гору, чтобы проведать пациента. «Хорейшо Джонс» умолял меня, если я найду время, приехать и провести с ним недельку. Для оплаты расходов он приложил к письму чек на сотню фунтов, лишив меня возможности отговориться отсутствием средств. Он похвалил мою первую книгу, которую прочитал, и просил телеграфировать о своем решении, для чего указал свое настоящее имя – как я и подозревал, он оказался одной из наиболее известных фигур в финансовых кругах. Мое время теперь принадлежало мне, и я телеграммой сообщил ему, что прибуду в следующий понедельник.
Он лежал на солнце возле хижины, когда я прибыл туда ближе к вечеру, после трехчасового восхождения вместе с носильщиком, нагруженным моим немногочисленным багажом. «Хорейшо Джонс» не мог даже пошевелить рукой, но его удивительные блестящие глаза смотрели приветливо.
– Хорошо, что вы смогли приехать, – произнес он. – Близких родственников у меня нет, а мои, если так можно выразиться, друзья – до слез нудные дельцы. И потом, они не те люди, с которыми мне сейчас хотелось бы поговорить.
Он всецело примирился с приближением смерти. Бывали моменты, когда мне казалось, что он ждет ее с нетерпением и благоговейным любопытством. Стараясь подбодрить его, как принято, я заявил, что пробуду с ним, пока мы не вернемся в лоно цивилизации вместе, но он лишь рассмеялся.
– Я не вернусь, – возразил он. – По крайней мере этим путем. А что будет дальше с этими переломанными костями – не ваша и не моя забота. Места здесь подходящие, чтобы умирать. Здесь хорошо думается.
Непросто сочувствовать тому, кто совершенно равнодушен к собственной участи. Мир по-прежнему вызывал у него живой интерес – за пределами его привычной сферы: он дал мне понять, что вытеснил из головы всякие воспоминания о ней. Ему не терпелось поговорить о будущем с его проблемами, возможностями, новыми событиями и обстоятельствами. Он казался совсем молодым человеком, у которого вся жизнь впереди.
Однажды вечером, незадолго до его конца, мы остались вдвоем. Дровосек с женой отправились вниз, в долину, проведать детей, а сиделка ушла пройтись, оставив пациента под моим присмотром. Перед ее уходом мы вдвоем перенесли его на излюбленное место у боковой стены хижины, откуда открывался вид на возвышающуюся громаду Юнгфрау. Тени удлинялись, и казалось, что гора в мрачном молчании надвигается на нас.
Я не сразу заметил его пронзительный взгляд, устремленный на меня, а когда заметил, то ответил на него.
– Интересно, встретимся ли мы вновь, – произнес он, – и, что еще важнее, вспомним ли друг друга.
На миг я озадачился. Мы не раз обсуждали