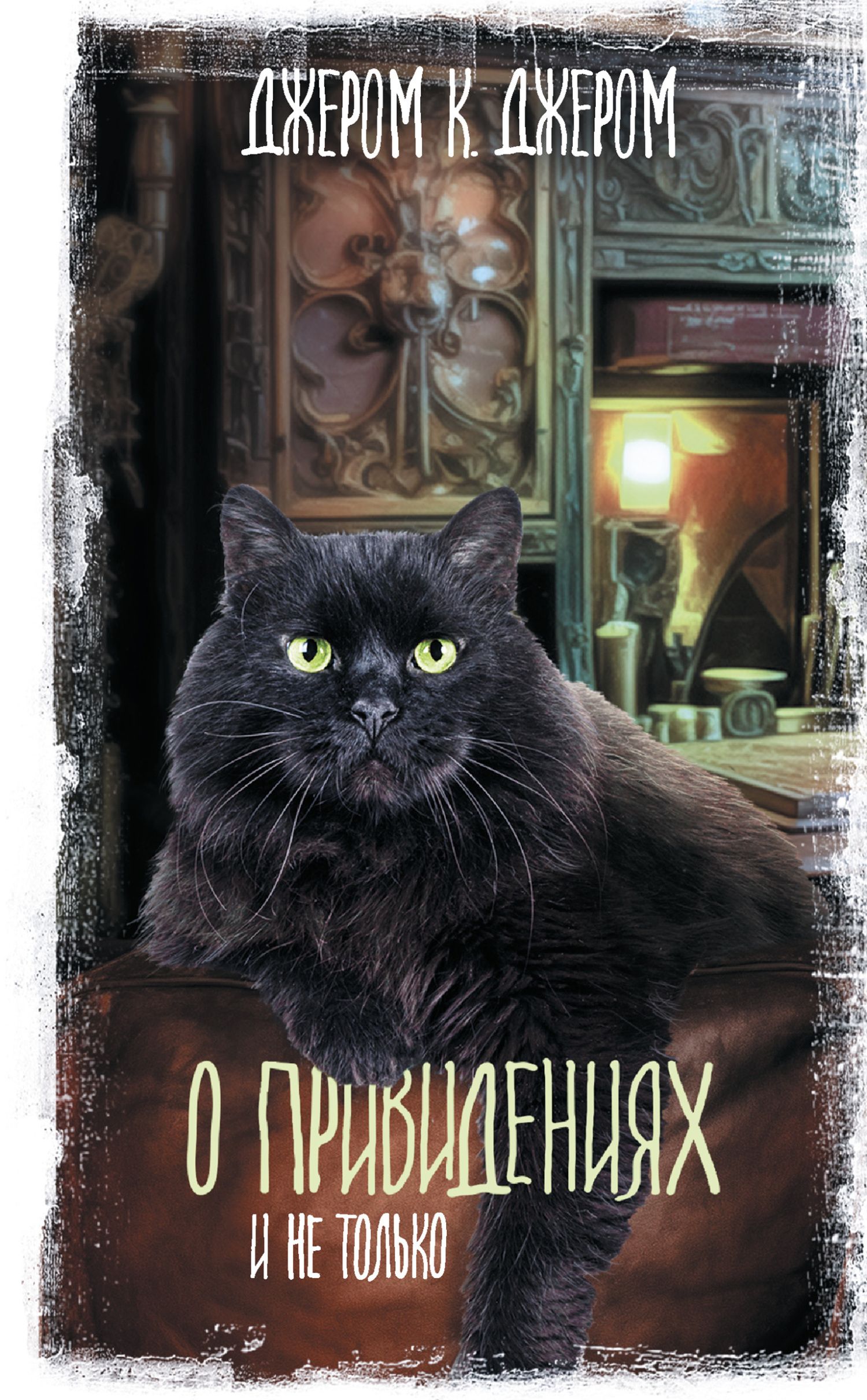мировые религии, и всякий раз оказывалось, что к ортодоксальным верованиям он относится с насмешливым пренебрежением.
– За последние несколько дней мной завладело одно ощущение, – продолжал он. – Первый его проблеск я почувствовал, когда впервые увидел вас на пароходе. Мы были студентами-однокашниками, мы учились вместе. Не знаю, по какой причине, но мы очень сблизились. Там была женщина. Ее сжигали на костре. Была толпа, внезапная темнота и ваши глаза прямо перед моими.
Видимо, это был некий гипноз, потому что, пока он рассказывал, неотрывно глядя мне в глаза, мне вдруг привиделись узкие улочки, заполненные странной толпой, крашеные дома, каких я никогда не видывал, и неотступный страх, прячущийся в тени повсюду. Я встряхнулся, надеясь вырваться из плена наваждения, но тщетно.
– Так вот что вы имели в виду тем вечером на Гоортгассе, – откликнулся я. – Вы в это верите?
– Любопытный случай приключился со мной в детстве, – продолжал он. – В то время мне было от силы лет шесть. Мы с родителями ездили в Гент – кажется, в гости к кому-то из родных. Однажды мы побывали в замке. В то время он представлял собой руины, теперь его отреставрировали. Мы заглянули в помещение, где некогда был зал заседаний. Я улизнул в дальний конец огромного зала, неизвестно почему нажал какую-то пружину, замаскированную в кладке, и вдруг со скрежетом открылась потайная дверь. Помню, как я юркнул в нее, оглянулся: никто на меня не смотрел, – и скрылся за дверью, закрыв ее за собой. Куда идти, я чувствовал инстинктивно. Я сбежал по лестнице и двинулся по темным коридорам, где мне пришлось ощупывать стены, пока на повороте я не нашел узкую дверь. Мне была известна комната, находящаяся за ней. Ее фотографии опубликовали спустя много лет, когда потайную комнату обнаружили, и она оказалась точно такой, какой представилась мне, когда я потайным ходом проделал путь под городской стеной и вышел к домику на Ауссермаркт.
Открыть дверь я не смог: ее придавили с другой стороны какие-то камни. Боясь наказания, я бросился обратно в зал совета, а когда вернулся, там уже никого не было. Меня искали в других помещениях замка. О своем приключении я так никому и не рассказал.
В любое другое время я бы только посмеялся. Позднее, вспоминая, что он рассказывал тем вечером, я отверг эту историю целиком как вымысел, плод детского воображения, но в тот момент удивительные блестящие глаза словно заворожили меня. Их взгляд оставался неподвижным, под этим взглядом я сидел на низких перилах веранды, глядя на его бледное лицо, которое уже начинала красить в свои цвета смерть.
У меня создалось впечатление, что этими рассказами он пытается втиснуть в мою память воспоминания о нем. Они казались средоточием его самого, его душой. Нечто бесформенное, но, тем не менее, отчетливое, материализовалось передо мной. Я испытал почти физическое облегчение, когда спазм боли вынудил моего собеседника отвести от меня взгляд.
– Когда меня не станет, вы найдете письмо, – после минутного молчания продолжал он. – Я подумал, что вы можете задержаться в пути или что мне не хватит сил все вам рассказать. Мне казалось, из всех моих знакомых, не принадлежащих к деловым, только вы не отмахнетесь от моих слов, не сочтете их абсурдом. А я рад, что умираю в здравом уме и твердой памяти, и прошу вас это запомнить. Всю жизнь я боялся старости и постепенного умственного упадка. В то же время мне всегда казалось, что я умру более или менее внезапно, продолжая владеть собой. И я всегда благодарил за это Бога.
Он закрыл глаза, но я сомневался, что он засыпает; немного погодя вернулась сиделка, мы перенесли его в дом. Больше разговоров мы не вели, хотя по его желанию следующие два дня я продолжал читать ему. На третий день он умер.
Я нашел письмо, о котором он говорил, – он сам объяснил, где его искать. К нему была приложена пачка купюр, которые он оставил мне, и совет потратить их как можно быстрее.
«Если бы я не любил Вас, – говорилось далее в письме, – то оставил бы Вам доход и Вы благословляли бы меня, вместо того чтобы проклинать как человека, который испортил Вам жизнь».
Он считал наш мир школой, в которой создаются люди, а силу – неотъемлемым качеством человека. В этих убеждениях можно усмотреть глубокую религиозность. Несомненно, в те времена его могли счесть теософом, однако свои убеждения он выработал сам и приспособил к своему кипучему, воинственному нраву. Люди нужны Богу, чтобы служить и помогать ему. Поэтому посредством многочисленных перемен на протяжении веков Бог дарует людям жизнь, чтобы в соперничестве и борьбе они неуклонно наращивали силу, чтобы тот, кто оказался самым достойным, сталкивался с более суровыми испытаниями, скромным стартом, значительными препятствиями. Венец добродетели – непрерывная череда побед. Видимо, он убедил себя в том, что он один из избранных, предназначенных для великих свершений. Во времена фараонов он был рабом, в Вавилоне – жрецом, он взбирался по веревочным лестницам при разграблении Рима, пробивал себе путь в советы правителей, когда Европа представляла собой поле боя для враждующих племен, рвался к власти в эпоху Борджиа.
Думаю, почти у каждого из нас порой возникают навязчивые мысли о неожиданно знакомых, хоть и далеких вещах; в такие минуты все мы гадаем, воспоминания это или видения. Взрослея, мы отмахиваемся от них: их вытесняет настоящее с его обилием насущных интересов, – но в молодости наши видения гораздо настойчивее. А у «Хорейшо Джонса» они сохранились, проросли в реальность. Его недавнее существование, завершившееся под белой простыней в хижине дровосека, под мое чтение, было лишь одной из глав его истории, а он уже с нетерпением ждал следующей.
В письме он задавался вопросом, есть ли у него право голоса при выборе. В любом случае результат вызывал у него острое любопытство. Втайне он предвкушал новые возможности и более обширный опыт. В какой форме явится ему и то и другое?
Письмо заканчивалось неожиданной просьбой: по возвращении в Англию мне следовало думать о нем – не об умершем человеке, которого я знал, еврейском банкире со знакомым мне голосом, манерой речи и поведения, со всеми присущими ему чертами, кроме стиля в одежде, а как о живом существе, душе, которая будет стремиться ко мне и, возможно, преуспеет в своем стремлении.
Письмо дополнял постскриптум, которому в то время я не придал значения. «Хорейшо Джонс» купил хижину, в которой умер. После его похорон хижина должна была опустеть.
Я свернул письмо, положил его к другим бумагам и зашел в хижину, чтобы еще раз взглянуть на тяжелое, грубо вылепленное лицо. Оно могло бы послужить скульптору моделью олицетворения силы. Казалось, этот человек победил смерть и просто уснул.
Я сделал все, о чем он просил. Сказать по правде, я не смог бы не выполнить эту просьбу – думал о нем постоянно. Возможно, этим все и объясняется.
Путешествуя на велосипеде по Норфолку, однажды днем, спасаясь от надвигающейся грозы, я вынужден был постучать в дверь одинокого коттеджа у края выгона. Меня впустила хозяйка, добродушная и суетливая; извинившись, она удалилась в другую комнату, где продолжала гладить белье. Считая, что, кроме меня, в комнате никого нет, я стоял у окна и смотрел, как хлещет ливень. Спустя некоторое время я неизвестно почему обернулся и увидел в темном углу комнаты ребенка, сидящего на высоком стульчике у стола. Перед ребенком лежала раскрытая книга с картинками, но смотрел он на меня. Из другой комнаты доносились шаги хозяйки и шорох белья. За окном размеренно шумел дождь. Ребенок смотрел на меня большими круглыми глазами, полными трагизма. Я заметил, что его маленькое тело искалечено. Он не шевелился и не издавал ни звука, но мне казалось, что своим необыкновенно тоскливым взглядом он что-то пытается сказать. Передо мной возникло нечто невидимое моим глазам, но определенно присутствующее рядом, в этой комнате. Это был человек, которого прежде я видел умирающим в хижине под склонами Юнгфрау,