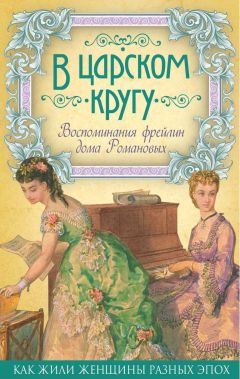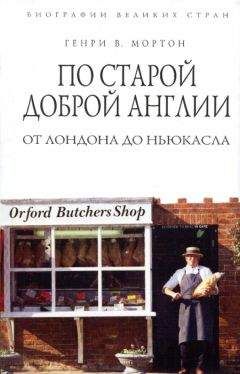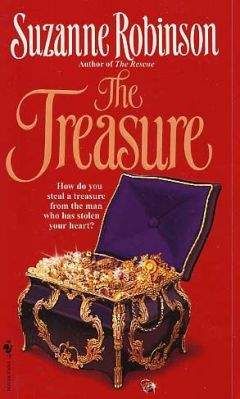Нет, мы, слава богу, знаем других джентльменов, получше; и, отвращая с неприязнью взор от этого чудовищного воплощения заносчивости, слабости, тщеславия, можем найти в Англии, которой якобы правил последний Георг, людей, действительно заслуживавших звания джентльмена, — при упоминании их имен сильнее бьется наше сердце, и их памяти мы радостно отдаем дань, когда этот имперский пигмей уже повергнут в пучину забвения. Я беру моих собратьев по профессии, литераторов. Например, Вальтера Скотта, который любил короля, служил ему верной защитой и опорой, как тот отважный горец, герой его книги, что бился с врагами своего малодушного вождя. Какой это был достойный джентльмен! Какая благородная душа, какое щедрое сердце, какая прекрасная жизнь была у славного сэра Вальтера! Или другой литератор, которым я восхищаюсь еще больше, — английский скромный герой, целых пятьдесят лет прилежно трудившийся по велению долга, день за днем накапливая знания и получая скудное жалованье да еще помогая из своих средств другим, он сохранял верность призванию и не соглашался свернуть с избранного пути ни ради людской похвалы, ни ради монаршей ласки. Я имею в виду Роберта Саути. Мы оставили далеко позади его политические позиции, мы не приемлем его догматизма, — вернее, мы просто забыли все это, но я надеюсь, что жизнь его никогда не будет забыта, ибо она прекрасна своей деятельной простотой, высокой нравственностью и силой нежного чувства. Боюсь, что в битве между Временем и Талабой победа осталась за всесокрушающим временем. Проклятье Кехамы теперь мало кого пугает. Но частные письма Саути стоят длиннейшей поэмы и, я уверен, останутся с нами, покуда добрые сердца живы для чести, чистоты, любви и благородства.
«Если чувства Ваши таковы же, как и мои, — пишет он жене, — то я уеду в Лиссабон только вместе с Вами или же останусь дома, но с Вами не расстанусь. Ибо без Вас я не то чтобы несчастен, но не могу быть счастливым. И ради Вас, ради самого себя и ради маленькой Эдит я не соглашусь на разлуку. Привязанность, которая должна вырасти между нею и мною за этот год, если богу угодно будет нам ее оставить, — это вещь сама по себе слишком прекрасная и слишком важная по своим последствиям, чтобы поступиться ею из-за небольшого неудобства для Вас или для меня… Обо всем этом мы еще потолкуем на досуге; только, дорогая, дорогая Эдит, ни за что не будем расставаться!»
Вот вам бедный джентльмен-литератор. У Первого Джентльмена Европы тоже были жена и дочь. Любил ли он их так? Был ли им верен? Жертвовал ли ради них своим удобством и показывал ли им высокий пример праведности и чести? Первому Гуляке Англии не было даровано такого счастья. Пиль предложил сделать Саути баронетом, и на это представление король уже дал согласие. Но поэт благородно отклонил баронетство.
«У меня есть, — пишет он, — пенсион, который достался мне заботами моего доброго друга Ч. Уинна, и, кроме того, я получил премию лауреата. Последняя сразу же целиком ушла как взнос по страхованию моей жизни на сумму в 3 000 фунтов, что, вместе с еще одной, более ранней, страховкой составляет мое единственное обеспечение для семьи. Все, что сверх этого, я должен добывать трудом. Работал я всегда ради хлеба насущного, и ничего, кроме хлеба насущного, не заработал, ибо, имея высшую цель, я не искал популярности и не преследовал корысти и посему не имел возможности что-либо откладывать. Прошлый год, впервые за всю мою жизнь, я располагал средствами к существованию на год вперед. Это разъяснение покажет, сколь неразумно и неуместно было бы мне принять сан, весьма для меня лестный, о котором Вы для меня хлопотали».
Как благородна эта бедность литератора в сравнении с богатством его господина! Даже жалкий его пенсион служил предметом для насмешки его врагам, а ведь заслуги и скромность этого государственного пенсионера неоспоримы не то что у другого нахлебника национальной казны, который получал по сто тысяч фунтов в год и тем не менее потребовал у парламента еще шестьсот пятьдесят тысяч.
Другим подлинным рыцарем тех времен был Катберт Коллингвуд; с тех пор как небо сотворило джентльменов, мне кажется, не было на свете лучшего, нежели он. Можно, по-видимому, прочесть о подвигах более славных, совершенных другими людьми; но где найти жизнь, исполненную такого благородства, доброты, прекрасной преданности долгу, где еще найти такое честное, верное сердце? Ярче, стократ ярче, чем блеск успеха и сияние гения, сверкает чистая и высокая слава Коллингвуда. Память о его геройстве и ныне будоражит сердца британцев. А при мысли о его доброте, нежности и благочестии на душе у нас становится тепло и ясно. Когда читаешь, как он и его великий товарищ шли на битву, с которой в истории бессмертно связаны их имена, на ум поневоле приходит старое английское выражение и старое английское понятие: христианская честь. Что за джентльмены они были, какие благородные сердца бились в их груди! «Нам не приходится, любезный Коля, пишет ему Нельсон, — предаваться мелочной зависти; перед нами одна великая цель — встретить врага и завоевать почетный мир для нашей родины». При Трафальгаре, видя, как «Ройал Соверин» в одиночку вторгается в строй объединенных флотилий, лорд Нельсон сказал капитану Блэквуду: «Смотрите, как ведет в бой свой корабль этот славный Коллингвуд! Завидую ему!» И такой же порыв рыцарского чувства возник в сердце честного Коллингвуда. Начиная сражение, он сказал: «Чего бы не дал Нельсон, чтобы оказаться здесь!»
А после боя 1 июня он пишет:
«Несколько дней мы крейсировали, как неудачники, которые попусту ищут то, чего не могут найти, покуда наконец утром в день рождения маленькой Сары, между восемью и девятью часами, не обнаружили прямо по ветру французский флот в двадцать пять парусов. Мы пустились в преследование, они развернулись по ветру, и мы сблизились на расстояние пяти миль. Ночь прошла в наблюдении и подготовке к предстоящему дню, и много благословений послал я моей Саре, на случай, если больше мне ее уже благословить не придется. На рассвете мы двинулись им навстречу, подойдя, выровняли строй, и тогда, уже около восьми часов, адмирал поднял сигнал, чтобы каждый корабль завязал ближний бой с противостоящим кораблем противника. Распустив паруса, мы устремились вперед, так что возвеселилось бы и самое холодное сердце, наводя ужас на бестрепетного врага. Корабль, с которым назначено было нам сразиться, стоял третьим после французского флагмана, и нам пришлось принять бортовые залпы и флагмана, и двух других судов между ними, и притом по два-три раза, прежде чем у нас выпалила хоть одна пушка. Время приближалось к десяти, и я заметил адмиралу, что в эту пору жены наши идут в церковь, но что, по-моему, звон в ушах у французов будет еще оглушительнее, чем деревенский благовест».
Никакими словами не передать чувства, которые охватывают при чтении простых строк этого героя. В них звучит бесстрашие и торжество победителей, но превыше всего — любовь. Христианский воин ночь перед боем проводит в бдении и подготовке к завтрашним трудам, и думает о своих любимых дома, и шлет благословения маленькой Саре — на случай, если больше благословлять ее ему уже не придется. Кто не захочет сказать «аминь» к его молитве? Она была благословением и самой его родине, эта молитва бесстрашного, нежного сердца.
Как образец английского джентльмена минувшего века нами назван славный воин и два литератора; помянем в этой связи еще и священнослужителя, чью трогательную историю, должно быть, читали и хорошо помнят те из моих слушателей, кто постарше возрастом, — и причислим к лучшим английским джентльменам преподобного Реджинальда Хибера. Очаровательный поэт и счастливый обладатель всех даров и талантов — знатного рождения, острого ума, славы, доброго имени и разностороннего образования, — он был всеми любимым священником родного прихода в Ходнете, «давал советы тем, кто испытывал трудности, помогал бедствующим, утешал страждущих и нередко преклонял колена у одра болезни с риском для собственной жизни; поддерживая и вдохновляя слабых, умиротворяя враждующих и щедро одаряя нуждающихся».
Когда ему было предложено место епископа в Индии, он сначала отказался; но потом, посовещавшись с самим собой (и с тем Советчиком, к Которому такие люди прибегают со своими сомнениями), он взял свой отказ обратно и стал готовиться к новой миссии и к разлуке с любимым приходом. «Детки, любите друг друга и прощайте друг другу», — таковы были его последние святые слова, обращенные к плачущей пастве. И он покинул своих прежних прихожан, зная, быть может, что больше уже с ними не увидится. Как и у других названных выше хороших людей, любовь и долг составляли цель его жизни. Счастливец. Счастливцы все те, кто хранит им верность! По пути он пишет жене такие очаровательные строки:
Когда б при мне с детьми была ты, о любовь моя,
Легко по Гангу бы плыла крылатая ладья!
На палубе я в тишине, чуть занялся рассвет,
Зной не настал, но тяжко мне: тебя со мною нет.
Брожу на гангском берегу, а мысль моя — с тобой,
Тебя забыть я не могу вечернею порой.
Я книги в полдень разложил — не пишется, беда!
И труд мой без тебя постыл, без твоего суда.
Когда я господу молюсь, колени преклоня,
Возносишь ты, не ошибусь, молитву за меня.
Вперед, куда бы долг ни вел в мельканье дней и тьмы:
О знойный индостанский дол, альморские холмы,
О сень делийских пышных врат, о заросли Мальвы,
Грядущих сладостных отрад не умалите вы.
Вовек не мог Бомбей седой такого счастья знать,
Как то, что ждет нас, лишь с тобой там встретимся опять.
Разве это не то же самое, что Коллингвуд и Сара или Саути и Эдит? Душевная привязанность составляет часть его жизни. Да и что была бы без этого жизнь? Без любви я не мыслю себе джентльмена.