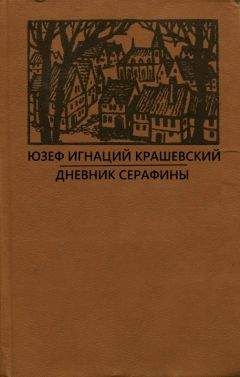Говоря это, он посмотрел на меня так, что я покраснела.
— Поразмыслив над моими словами, — продолжал он, — вы поймете, что я имею в виду, и не будете на меня в претензии.
С этими словами он встал и вышел из комнаты.
Увы, я сразу поняла, к чему он клонит. Он хочет, чтобы я удалила от себя Опалинского.
С моей стороны это будет большой жертвой, но ради Стася я на все готова. Советник прав: ни малейшее подозрение не должно коснуться его матери, и малейшая тень не должна пасть на его колыбель.
Да, пускай уезжает, хотя я очень привязалась к нему и мне нелегко с ним расстаться.
«Теперь ты свободна»… — читаю я в его глазах. Но если я выйду за него, люди скажут: я узаконила давнюю связь супружеством. Нет, это невозможно! Надо с ним поговорить. Но как к этому подступиться?
После обеда снова зашел ко мне советник.
— Ну что, прав я или нет? — спросил он.
— Да, я должна признать вашу правоту, — тихо ответила я.
— Я не требую, чтобы вы расстались навеки. К чему такая; жестокость, но сейчас это необходимо.
— Может, вы сами поговорите с ним? — спросила я. — Как опекун, вы легко найдете предлог, объяснение…
— Не знаю, — сказал он после минутного раздумья, — право, не знаю, как лучше поступить. Надо хорошенько все взвесить. Но это дело не терпит отлагательства.
На этом разговор прекратился. А вечером я не вышла в гостиную. Мое отсутствие можно было объяснить тем, что я у Стася. Лучше всего мне возле него и с ним. Когда я смотрю на своего сыночка, у меня перестает болеть сердце.
25 мая
Задумавшись, напевала я Стасику песенку, тут вошла Юлька и сказала: меня хочет видеть Опалинский. Казалось бы, что в этом особенного, — ведь мы видимся ежедневно, но у меня подкосились ноги, закружилась голова, и, чтобы не упасть, я ухватилась за детскую кроватку. Мне стало страшно. Лишь смочив одеколоном виски и немного успокоившись, я вышла к нему.
Он стоял у окна, глядя в сад, и настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как я вошла, не слышал моих шагов. И я смогла всмотреться в его лицо, — обычно отмеченное печатью грусти и раздумья, оно было мрачно, как небо в непогоду. Видно, на душе у него было тяжело. Глаза застилали слезы, но он не давал им пролиться, чтобы облегчить сердечную муку.
Вдруг он вздрогнул и обернулся. Хотел улыбнуться, но губы его искривились. Долго, не отрываясь, смотрел он на меня, и от его взгляда мне стало не по себе.
— Я уезжаю и пришел проститься, — сказал он едва слышно.
— Надолго? — спросила я.
— Заранее никогда неизвестно, сколько продлится разлука. Иной раз чаешь вернуться через час и никогда больше не возвращаешься.
— К чему этот высокий стиль? — сказала я, не желая продолжать разговор в таком трагическом тоне. — Куда вы собрались ехать?
— Куда? Сам еще не знаю. Но ехать непременно должен.
— Вы говорите загадками.
Он с нежностью посмотрел на меня, улыбнулся и взял мою руку.
— Господин тайный советник находит, что мне необходим отдых и перемена обстановки. Он озабочен моим здоровьем и настоятельно советует мне уехать, а желание его равносильно приказу.
Я смешалась. Мне стало грустно, в сердце накипали слезы. Он не выпускал мою руку.
— Его превосходительство прав…
— Оставьте иронический тон! — заметила я. — Он лишь причиняет боль.
— А ирония судьбы? Она разве не заставляет страдать? — промолвил он печально. Но страдание порой исцеляет, оно бывает неизбежно и благотворно…
Взявшись за руки и словно не замечая этого, переступили мы порог детской и приблизились к колыбели, где под голубым пологом спал Стась, закинув за голову ручонки, не окутанные свивальником. Мы стояли в молчании, боясь нарушить его сон. Но природа наделила детей чудодейственным инстинктом, благодаря которому они распознают присутствие людей. И Стась открыл глаза, поднял голову и, улыбаясь сквозь сон, потянулся к нам.
Стась уже узнает его и улыбается ему. Не успела я опомниться, как он взял Стася на руки, прижал к груди, поцеловал и отдал мне с улыбкой. А Стась обхватил меня ручонками за шею.
Когда я обернулась, его в комнате не было.
За обедом советник сказал мне:
— Вы, наверно, уже знаете: пан Опалинский уехал. Для нас это большая утрата. Найти ему замену нелегко. Но по состоянию здоровья он давно нуждался в отдыхе, к тому же и семейные дела потребовали его отъезда. Надеюсь, он еще вернется…
1 июля
Заглянула в дневник. У меня уже нет потребности писать его изо дня в день, как бывало прежде. Теперь меня целиком поглощает мой Стась. Иной раз за какой-нибудь час переживаю я целую драму. Он плачет, — как отгадать причину его слез? Только инстинкт да материнское сердце может подсказать ее.
Но вот он смеется, — как продлить благословенный этот миг? А когда он капризничает, как отказать ему в том, что повредит ему? Любовь неподвластна разуму. И пренебрегши опасностью, она на все готова ради любимого существа. О материнство! Кто способен постичь твои тайны?
Хотя сердце мое преисполнено любви, я ощущаю вокруг ужасающую пустоту, но вздыхать, сетовать на судьбу, думать, что принесла себя в жертву ради Стася, я не вправе. И он никогда об этом не узнает.
Ах, как пусто, пусто вокруг! Кажется, не два месяца минуло, а два века. Ведь писать ему не возбранялось. Значит, нет у него в этом нужды. Не раз бралась я за перо, но где он, куда писать? Может, советник знает его адрес, но не спрашивать же у него…
Милые сердцу картины расплываются, меркнут — так идущий ко дну корабль исчезает в волнах. Однажды я наблюдала в Неаполе, как утлый рыбачий баркас наскочил на большой корабль и стал погружаться в воду. Напоследок над поверхностью моря торчала лишь верхушка мачты, но вот она накренилась, покачнулась, и ее поглотили волны.
Моя ладья тоже плывет по волнам житейского моря, и я вижу над ней черный, траурный парус. И меня охватывает дурное предчувствие. Всякий раз с нетерпением поджидаю я почту, а когда не нахожу письма, вздыхаю с облегчением…
4 июля
На недостаток общества я пожаловаться не могу. Благодаря советнику, который оказался радушным, любезным хозяином, в Гербуртов часто наезжают гости. Если он полагает, что это доставляет мне удовольствие, он глубоко заблуждается. Но зачем огорчать его? Пусть пребывает в счастливом неведении. Только мама никак ко мне не выберется: не может расстаться с Сулимовом и со своей Пильской. А Пильская пишет, что она никуда не выходит из комнаты и по целым дням молится. Зато тетя часто навещает меня, а с ней ее неизменный спутник — ротмистр. Дядюшка тоже наведывается в Гербуртов. Не забывает меня и папа.
Вчера они случайно столкнулись у меня, и я оказалась в затруднительном положении, потому что в мире нет двух других людей, которые относились бы друг к другу с такой неприязнью.
Дядюшка называет папу пятидесятилетним юнцом, а папа его — мужланом. Однако «мужлан» терпеливо сносит присутствие папы, в то время как папа и двух минут не может высидеть в гостиной в его обществе.
Дядюшка был крайне удивлен, узнав об отъезде Опалинского, к которому мирволил.
— Вам крупно повезло, напали на порядочного, толкового человека и того поспешили спровадить.
— Насильно, против воли никого не удержишь, — оказал советник.
Дядюшка недоверчиво покачал головой.
— Так я тебе и поверил, старый Макиавелли! С вашей стороны это непростительная глупость, — другого такого управляющего вам не найти.
Я не вмешивалась в разговор.
Утром ко мне пожаловал отец: поговорить по душам.
Сначала попросил взаймы денег, что я с величайшей охотой сделала. Когда с этим было покончено, он стал жалостливо поглядывать на меня и вздыхать.
— Ты что же, решила похоронить себя в деревне? — спросил он. — Нянькой заделаться? Стать затворницей? При твоей красоте — а ты еще никогда не была так хороша, как теперь! — и молодости грешно сидеть в четырех стенах в глуши. Кому как не тебе блистать в обществе?
— Я счастлива!
— Как бы не так! Счастлива… Женщина в расцвете сил не может быть счастлива, если она одинока. Это противоестественно.
— Я не одинока: у меня есть сын.
— Этого недостаточно.
— Ему принадлежат мое сердце и жизнь.
— Ты не создана быть нянькой. Твоя сфера — светская жизнь. Твое предназначенье — блистать в обществе. Ты обладаешь всеми необходимыми для этого качествами: искусством вести беседу, остроумием, очарованием и прочими достоинствами.
С полчаса уговаривал он меня переехать в город. В конце концов мы порешили на том, что впоследствии мне придется переселиться во Львов для воспитания сына. Но когда это еще будет… Отец вообще не признает жизни в деревне.
Получила письмо от Адели. Со времени нашего знакомства в Карлсбаде мы с ней изредка переписываемся. Она вышла замуж, причем по любви, и очень счастлива. У мужа ее нет состояния, и они вдвоем едва наскребли деньги на аренду какого-то имения. Но она пишет: ей так хорошо, что лучше не бывает, и ей ничего больше не надо.