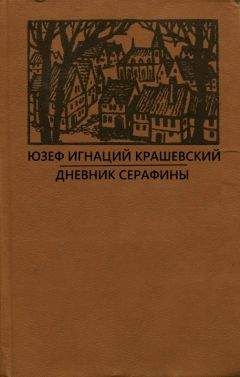Вместе с ней направились мы к маме: после смерти барона она не покидает свою комнату, неподвижно, точно неживая, сидя в кресле. При виде сестры она разрыдалась, потом истерически захохотала, и нам с трудом удалось привести ее в чувство.
— Видишь, до чего я дожила… — сказала она ослабевшим голосом. — Серафина не желает возвращаться к мужу… Барон умер, не оставив завещания. Лишения, нужда — то, чего я больше всего боялась, — страшными призраками встают передо мной. Именно теперь, когда я состарилась и особенно нуждаюсь в покое и достатке. О, жестокая судьба!..
Обе они плакали, и я оставила их вдвоем, не желая мешать. Кроме того, я чувствовала: мое присутствие стесняет маму, — ей не терпелось пожаловаться на меня тете. По ее мнению, во всем виновата я сама, не сумев воспользоваться полученными благодаря ее стараниям благами.
Полдня провела я в размышлениях о своей судьбе. Под вечер явилась Пильская и от маминого имени велела мне принять агронома, который приехал по делу. Я вышла к нему в гостиную, не озаботясь своим туалетом. Он стоял в задумчивости, опершись на столик.
— Мне весьма неприятно, — поздоровавшись, сказал он, — обращаться к вам с просьбой, когда у вас такое горе. Но дело в том, что родственники барона, унаследовавшие его имение и все имущество, относятся ко мне с предубеждением. Они потребовали от меня полного отчета по делам имения, от чего я не намерен уклоняться, поскольку это моя обязанность, но мне бы не хотелось жить у них из милости в продолжение этого времени. Вот я и приехал спросить, не найдется ли у вас для меня комнатенка где-нибудь во флигеле. Отсюда близко до имения барона, куда мне ежедневно придется наезжать. Мне нужен лишь кров, и притом ненадолго.
— О чем вы говорите? — сказала я, приблизясь к нему. — Даже не спрашивая разрешения у мамы, прошу вас, располагайтесь как дома. Я однажды уже призналась в дружеских чувствах к вам, так вот, они не изменились. А теперь, когда я так одинока и несчастна, мне особенно нужно ободрение, участливое слово…
Он посмотрел на меня проникновенным взглядом. Глаза наши встретились, и мной овладело неиспытанное доселе — удивительное и непостижимое — чувство, будто наши родственные души навечно соединены свыше. Больше мы не сказали друг другу ни слова.
Я позвонила и распорядилась приготовить для него комнаты. Опалинский тотчас вышел, боясь показаться навязчивым. Мама не возражала, когда я изложила ей просьбу агронома.
Когда мы остались втроем, она, понизив голос, сказала, обращаясь не то ко мне, не то к тете:
— Я давно заметила, что Серафина неравнодушна к Опалинскому. Меня это нисколько не удивляет, и я не порицаю ее, — он действительно очень мил. Но, если он поселится у нас, могут возникнуть сплетни, и я боюсь, как бы они не дошли до Гербуртова.
— Дорогая мама! — вырвалось у меня. — Я питаю к нему лишь дружеские чувства, и его благородство оградит меня от подозрений.
— Ну, ладно, — отвечала мама. — Не стоит говорить об этом. Поступай как знаешь. Но смотри, будь осторожна. Вы влюблены друг в друга — это ясно, и от сестры у меня нет секретов. Какие это может иметь последствия, предвидеть нетрудно. Кто из нас не давал зарока одолеть любовь и, тем не менее, оказывался ее жертвой. Умоляю тебя, будь осторожна. Сулимов, считай, нам уже не принадлежит, а иных источников дохода у нас нет. Поэтому упускать Оскара нельзя… сделай это ради меня… У Опалинского нет состояния, любовь к нему погубит тебя.
— При чем тут любовь! — воскликнула я.
Мама с тетей переглянулись и промолчали. Про свой разговор с дядюшкой я им ничего не сказала. Мамины слова посеяли в душе моей тревогу: неужели я испытываю к Опалинскому нечто большее, чем уважение и симпатию?
15 декабря
Время летит так быстро, что я не поспеваю каждый день писать дневник. Вчера приехал дядюшка и сразу прошел ко мне. По его лицу я сразу поняла: он привез неблагоприятные вести. Так оно и оказалось: советник, боясь огласки, не хочет слышать ни о раздельном проживании, ни о разводе. Он обещал уволить Яна, поселиться с нами в Гербуртове и следить, чтобы Оскар вел себя прилично.
— Ни угрозы, ни просьбы на него не подействовали — говорил дядюшка. — По правде говоря, я тоже считаю брак священным и, коли вы повенчаны, надо нести крест до конца… Во всяком случае, испытай, не изменился ли он к лучшему.
— Ни за что к нему не вернусь! — вскричала я.
— Ну, как знаешь, — продолжал он. — Пока суд да дело, я готов тебе помочь, чем смогу. Поживи дома, отдохни, а там видно будет.
Опять мои надежды рухнули! Дядюшка как человек деловой не любит бросать слов на ветер и сразу же принялся высчитывать, какую сумму он сможет мне ассигновать. Оказалось, совсем небольшую, особенно в мамином представлении, — она по-прежнему хочет жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, поэтому она плачет, отчаивается, проклинает свою судьбу. Она боится людской молвы и твердит: «Пока я жива, в Сулимове должно все оставаться по-старому».
Положение у меня отчаянное. Стоит мне выйти из своей комнаты, как мама с тетей набрасываются на меня, заклиная вернуться в Гербуртов и просить вспоможения для нее. По их мнению, Оскар, верней советник, не откажет в этом: побоятся скандала. Я измучена вконец, ума не приложу, как быть. Лучше умереть, чем жить с ним!
Единственная моя отрада — Опалинский! Он приезжает поздно вечером, измученный, задерганный, а тут еще я приступаю к нему со своими горестями. Он тоже не знает, что делать. Узы брака, говорит он, нерасторжимы, и никто не вправе их нарушить. Муж и жена дают обет разделять горе и радость, и освобождение может принести лишь смерть. Однако он согласен со мной, что возвращаться в Гербуртов не следует.
Я посвятила его в бедственное положение мамы, — впрочем, ему это известно: ведь он занимался немного делами нашего имения.
— Зря вы с вашей матушкой так боитесь бедности, — сказал он в ответ. — Слишком большое значение придаете вы мнению света и ради него готовы жертвовать собой. Бедность — не порок, и тот, кто ее не стыдится, вызывает к себе уважение, а блеском показной роскоши все равно никого не обманешь. Доходов от Сулимова на содержание многочисленной дворни недостанет, но на скромное прожитье хватит.
— При малейшем упоминании о переменах мама заливается слезами. Она боится пересудов…
Каждый вечер ведем мы такие разговоры, но какой в них прок, — только лишний раз заглядываешь в разверстую у ног пропасть.
Иной раз я забываю в его обществе о своем горе. А что, если мама права и я в самом деле могу влюбиться в него? Подобная мысль пугает меня: это сулит мне еще большее несчастье. А он, что сталось бы с ним? Хотя взгляды, которые он бросает на меня, невольно выдают его чувства, слова, надо отдать ему должное, исполнены смирения и покорности судьбе. Вечера, проведенные с ним, приносят мне утешение и радость.
Но через несколько дней я лишусь этого утешения. Опалинский опроверг обвинения родственников барона, и они даже принуждены были извиниться перед ним. Как оказалось, имение уцелело только благодаря его стараниям. Они просили его остаться управляющим хотя бы до раздела имущества — а это долгая история, так как без суда дело не обойдется, — и предлагали жалование большее против того, что он получал у барона, но Опалинский наотрез отказался.
Еще день-два, и, покончив с делами, он простится с нами. Он едет под Жешув спасать очередного помещика от разорения. Если, с насмешкой сказал он, его пребывание в Галиции не сочтут опасным и не прикажут в двадцать четыре часа покинуть ее пределы. Как это уже не раз случалось.
Я записала его слова по памяти: может, потом пойму, что они значат. А сказал он примерно вот что:
— Как бы смирно ни вели себя мы, несчастные изгнанники, австро-венгерские власти всегда будут относиться к нам с подозрением. В их глазах представляет опасность и наш труд, связанный с передвижением по стране, присущая нам в известной мере независимость суждений. Многие из тех, кто верой и правдой служат австро-венгерской монархии, разыгрывали из себя некогда патриотов, но то была безобидная игра, и продолжалась они до тех пор, пока они не дослужились до высоких чинов. И тогда, облачившись в мундиры тайных советников, они почему-то вообразили, будто им угрожает опасность со стороны тех, кто лишен возможности надеть шитый золотом мундир и величаться превосходительством. Чаще всего их недоброжелательность относится к нам, эмигрантам, в которых они видят не братьев, как оно должно быть, а врагов…
16 декабря
О, я несчастная! Со слезами упросила Опалинского остаться еще на несколько дней. Но что для нас эта живительная капля в кубке яда? Разлука все равно неотвратима.
Когда он рядом и я внимаю его речам, мнится, во мне совершается переворот, перемена к лучшему, — на душе становится покойней и отрадней. На окружающий мир он взирает как бы с высоты и потому видит дальше и шире.