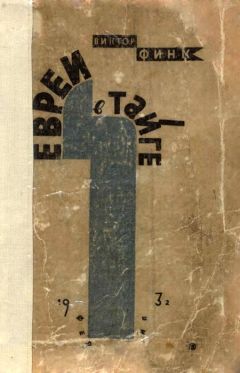5. Нет бога
Станица Бабстовская, километрах в двадцати пяти от китайской границы по Амуру, — глухая казачья станица, одно из первых и безнадежно темных поселений, основанных в 1858 году Муравьевым.
Вот что произошло в Бабстовской в 1929 году. Местный учитель, при поддержке нескольких комсомольцев, повел большую агитацию за то, чтобы под школу было отведено церковное здание. Он ходил с комсомольцами из дома в дом и доказывал каждому в отдельности, что нынче, мол, век науки и техники, а бог ни при чем. Он терпеливо вдалбливал в головы сознание необходимости учить детей тем наукам, которыми живет и двигается великий мир по ту сторону тайги. Он повел наступление на темноту, он осадил неприступные бастионы невежества, он вышел в рукопашную с традициями дедов.
И в один прекрасный день общее собрание граждан станицы Бабстовской постановило упразднить богослужения в церкви и отдать церковное помещение под нужды школы. В этот день необычайный ветер дул из тайги, тучи висели над хинганскими сопками, и деды предвещали целый ряд важных событий, в том числе, между прочим, и конец света.
В известной степени они оказались правы. Вот что в действительности произошло. Поп повел контрнаступление на учителя. Поддерживаемый стариками, он тоже стал ходить из дома в дом и пустился доказывать всем, что, в сущности, никакой науки и никакой техники на свете нет, а если есть, то это соблазн. Он напоминал, что в Бабстовской церкви, «во матушке соборной церкве», — как поется в одной местной песне, — «за престолом спала и почивала мать пресвятая богородица». Он предупреждал, что она никак не потерпит, чтобы в ее опочивальню входила какая-то наука и техника.
В результате его агитации было решено опротестовать перед Далькрайисполкомом постановление схода о передаче церкви под школу. В качестве ходока в Хабаровск избрали одного из местных стариков — крепкого, непоколебимого солдата Кукина, который дойдет до края, помрет, а не сдастся. Дали старику на дорогу денег и сухарей, благословили крестным знамением и иконой, и старик зашлепал по грязи. Он пошел к Амуру, где пристань и пункт пограничной охраны. Он явился на пункт в одно прекрасное утро и застал несколько человек военных — пограничников, моряков с военной флотилии, военных летчиков. Это были молодые, здоровые, веселые, молодцеватые и хорошо выправленные люди.
Старик рассказал им, зачем едет в Хабаровск. Они предложили ему подумать, не прав ли, чего доброго, учитель насчет науки и техники.
Старика повели к ангару, где стоял гидроплан.
— Дед, гляди! Вот эта штука летает все равно как птица. А почему? А потому, что наука и техника.
Я не знаю, какова была эта беседа во всех подробностях. Я знаю только, что старик дал себя усадить в машину и согласился подняться на воздух.
— Давай, что ж, — вспорхнем!
Шутники из отряда морских летчиков подняли старика на воздух и со сказочной быстротой умчали его на тот самый участок небес, под которым копошится славная станица Бабстовская с попом, с древними стариками, с грязью, с темнотой и с матушкой пресвятой богородицей, которая сияет и почивает в пресвятой бабстовской церкви. Старика поднимали в поднебесье, потом опускали вниз чуть не на самые бабстовские крыши. Шутник-летчик понес его к его собственному дому, потом к церкви. Они чуть было не сели на крышу дома, где живет сам батюшка, они сделали несколько виражей над избой учителя. Все население высыпало на улицу. Ошеломленный дед узнавал своих знакомых, он видел свою собственную старуху и только жалел, что его никто не видит и не узнает из земных жителей, да и не подозревает никто, что в животе у этой тарахтящей птицы сидит он, местный ходок, все равно, как Иона во чреве кита.
Покружив над станицей, машина снова взмыла под самые небеса. Все было чисто в голубом просторе. Было видно, как внизу тайга облегла долины и горы. Она была похожа на громадного зверя в пушистой темно-зеленой шкуре. Вдали сверкала серебром и голубизной величественная река.
Старик не заметил, как машина опустилась на землю. Веселый летчик велел ему выходить. Дед не знал, долго ли длился сумасшедший сон. Выйдя из аппарата, он увидел себя возле того самого контрольно-пропускного пункта, где познакомился с летчиком. Нет точных сведений насчет того, что именно думал дед. Собственно говоря, он и не похож был в эту минуту на человека, который думает. Он пустился назад в Бабстовскую. Не заходя к себе домой, он забежал прежде всего к попу.
Задыхаясь от злобы и волнения, старик Кукин кричал:
— Сам видел, своима глазами! Никого там нету!
Поп не понял ничего. Он подумал в первую минуту, что дед сошел с ума. Старик давал, впрочем, все основания для этого предположения. Он ураганом выбежал из квартиры попа и зашлепал по селу, крича не своим голосом:
— Вранье! Все вранье! Никого там нету! Сам был там, где анделы живут. Никого там нету… Сам видел…
Он ходил из дома в дом и своим авторитетом ходока подтверждал, что во время разведки на небе им никакого бога, ни ангелов не обнаружено. Свидетельство такого почтенного и доверенного лица произвело в селе большое впечатление. Перед домом попа собралась кучка вчерашних верующих. Люди с остервенением кричали:
— Ступай картошку копать, долгогривый! Работать надо! Вон послухай, чево дед рассказыват: нету бога, одна наука и техника…
Так церковь и забрали под школу.
Второй раз писать предисловие к своей книге, конечно, невозможно. Но примечание необходимо: эта глава начинается со старика в автомобиле и кончается стариком на аэроплане. В этом может показаться что-то нарочитое, как бы специально устроенное. И правда! Но это специально устроено не автором, а эпохой.
Что поделаешь, когда время сумасшедшее? Вот стояла таежная пустыня нетронутой со времен библии. И пришли люди, обыкновенные саваофы в кепках, и стали ее тормошить и раздувать уголек жизни. И вот дед в автомобиле чуть не сталкивается со стариком в аэроплане.
— Деды отмерзают!..
Их встреча в главе об антисемитизме сулит, пожалуй, «отмерзание» и в тайге человеческих предрассудков.
Я тогда же, т. е. осенью 1929 года описал этот случай в журнале «Огонек». А летом 1930 года, будучи в Биробиджане, приехал я в новостроящийся еврейский колхоз Алексеевку и там повстречался со своим знакомым казаком Андреем Подойницыным.
Я спросил его, что поделывает Кукин.
Подойницын читал мое письмо в «Огоньке», но так как он не знает ни моей фамилии, ни моей профессии, то он и не подозревал, что я — автор. Он стал рассказывать мне с большим изумлением:
— Эх, чего только было, чего было!.. Ведь про деда Кукина в журнале напечатали!
— Да что ты? — изобразил удивление и я.
— А как же? Выведали-таки про него! И все написали, прямо до точки.
Нашему разговору мешали: подходили евреи и гольды-землекопы, и спрашивали у Андрея про разные дела, — он инструктор здесь, — и все отвлекали от темы, а во мне она уже билась, как живая жилка: это всегда бывает с авторами, когда они вдруг видят, что среди жизни живут их произведения.
— Что же, однако, сказал старик? — спросил я.
Из слов Андрея я понял, что, повидимому, когда в станице прочитали «Огонек», то все изумились до чего дед стал знаменит, раз про него в самой Москве пишут. Но, повидимому, выдержать почтение к старику было трудно. Вообще, почтение — очень трудное и хлопотливое чувство. Поэтому над Кукиным стали посмеиваться, взяли его в иронию, в кавычки: так-то оно много легче.
— А старику, само главно, досада была, потому как сам он неграмотный, то не мог, само главно, прочитать, что же однако написано в том журнале «Огонек»! — говорил Подойницын. — Уж ему раз сто комсомольцы вслух читали, а он все не верил, все ему казалось, что не так ребята читают!
Опять нам помешали.
— Долго ходил он сердитый, — продолжал затем Андрей. — Видели все — старик что-то задумал, да не знали что. Уж наши старики знаете какие — с нашего деда все станет! Но между прочим положил Кукин конец в том, что пришел в эту самую церковь и стал учителю доказывать, что, мол, так и так, он об этой школе на небе хлопотал, а потому имеет желание сам учиться.
Андрей прибавил:
— Ходит он нынче в школу вместе со внучатами, за букварем сидит, грамоте учится. «Хочу, — говорит, — грамотным помереть»! Уж он, положим, научился читать: тот рассказ почти наизусть выучил.
1. Корейцы имени Либкнехта
От Тихонькой километрах в 1½—2 недавно выросла корейская деревушка. Называется она «колхоз им. Карла Либкнехта», а живут там одни корейцы. Им трудно произнести имя своего шефа. Если не боятся мошки и пойти от парома прямо через болото, то можно до корейцев добраться, примерно, за полчаса. Однажды я повел туда немецкого журналиста, с которым мы повстречались на Дальнем Востоке.