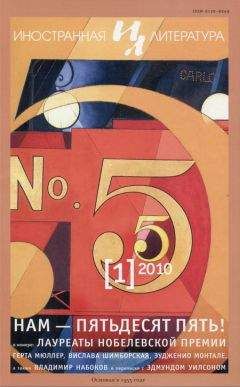Она не слышала, она спала. Дождь за окнами кончался. Осторожно положив вырезки ей на грудь, он решил: «Пойду прогуляюсь. Свет выключать не стану, она проснется и сразу их увидит». И вышел на цыпочках.
«Au Pied de Porc»[134], — сказал Карло шоферу, и на вопрос о более точном адресе добавил на ломаном французском: «Это на улице, перпендикулярной рю Одеон, когда будем подъезжать, я покажу».
Шофер, ворча, тронул с места. Седой, с усами, в каскетке. А глаза…
— Ты видел, какие у него удивительные глаза? — спросила Аделина. — Как море. Наверно, русский аристократ, может быть, даже князь.
— Русский? С чего ты взяла?
— Среди парижских таксистов тысяча пятьсот русских, и почти все они голубой крови. Дашь ему хорошие чаевые. А пока поговори с ним. (И, подавая пример, обратилась к шоферу, жавшему на газ: — Жаркий вечер, синьор, не правда ли?)
— Bien sûr, Madame[135], — буркнул мнимый князь, резко беря в сторону, чтобы объехать велосипедиста.
— По-моему, он не очень-то склонен поддерживать разговор, — сказал Карло. — Оставь его в покое.
— Я сразу поняла, что это тонкий человек. Я попрощаюсь с ним за руку. Как ты думаешь, пятидесяти франков сверху будет достаточно? А мы не оскорбим чаевыми его достоинство?
Они уже подъезжали к рю Одеон, но Карло, глядя в окно машины, не находил ничего похожего на то, что ему описывали, рассказывая о «Свиной ножке». Водитель, снизив скорость, оборачивался к нему с вопросительным видом.
— Немного дальше… еще немного… может быть, теперь направо… нет, поверните, пожалуйста, налево, — говорил Карло, но вывески со свиньей нигде не было видно. Таксист ворчал, все больше и больше мрачнея.
— Что он о тебе подумает! — сокрушалась Аделина. — У другого на его месте давно бы лопнуло терпение.
— Да он самый настоящий мужлан, — не выдержал Карло. — Заплачу ему точно по счетчику, будет знать, как себя вести.
Одна улица сменяла другую, машина несколько раз возвращалась назад — и все напрасно. Наконец шофер вышел и долго совещался с группой рабочих на углу, после чего сел за руль, говоря всем своим видом: «Теперь я знаю!»
Проехав еще с полкилометра, он свернул в темную пустынную улицу и остановился у плохо освещенной вывески с надписью «Au pied de cochon»[136].
— Voilà le porc[137], — объявил он, оборачиваясь.
— Но это не здесь, — сказал Карло, который, казалось, того и гляди, лопнет от злости. — Мне описывали совсем другое место: небольшой сквер и вывеску с устрицами и дичью. И потом это должна быть именно porc, а не cochon. — И шоферу: — Je cherche le porc, pas du tout le cochon[138].
— Eh bien, Monsieur[139], — сказал шофер, открывая дверцу. — C’est bien la même chose: c’est toujours de la cochonnerie[140].
Карло не успел ответить: Аделина сжала ему руку. Они вышли из машины, заплатили шоферу триста двадцать франков, к которым Аделина прибавила еще пятьдесят, и старик уехал, не попрощавшись.
— Ну и тип! Одно слово: rustre[141], сказал Карло, пряча бумажник. — Высадил нас, где ему заблагорассудилось.
— А это он остроумно придумал: c’est toujours de la cochonnerie. Будь на его месте итальянец или француз, разве бы они ответили так? Это был русский аристократ, я уверена. А чего ты хотел? Чтобы он знал все наперечет парижские gargottes[142]? Ты должен был дать ему точный адрес.
— Какой там русский? Конюх из какой-нибудь французской дыры, чистейшей воды деревенщина.
— Ты идиот.
— А ты дура!
— Я не буду ужинать.
— Я тоже.
Они сами не заметили, как оказались за столиком. В ресторане — не исключено, что дорогом — было тоскливо и пусто. Официант, подавая меню, сказал: — Hors d’oeuvre? Escargots?[143]
Всхлипывая, она сказала, что будет есть улиток.
«ТЕБЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОМЕНЯТЬСЯ С…?»
С первых утренних часов (первых для купающихся, то есть часов с десяти-одиннадцати) они бродят в пиниевых рощицах и по пляжу. Они смотрят, приглядываются, слушают, время от времени делая пометки в записных книжках. Но самые урожайные часы начинаются ближе к вечеру, когда люди собираются в группы, беседуют, откровенничают — одним словом, могут проговориться, выдать свою тайну (если она у них есть).
— Тебе бы хотелось поменяться с ним? — спрашивает Фрика у Альберико, показывая на волосатого адвоката в шортах, склонившегося над картами. Ее внимание привлек уверенный, громкий голос, который не удается заглушить ветерку «(Чертова канаста!.. Выбросить джокера!..»).
— Мне? Я готов, — отвечает Альберико и делает пометку в записной книжечке. Мимо проходит женщина в узеньких трусиках, лифчике и золотых сандалиях. Эта красивая золотисто-рыжая статуя каждый год приезжает из Бусто в огромном автомобиле с ребенком и бонной.
— Тебе бы хотелось поменяться с ней? — спрашивает Альберико. И Фрика отвечает:
— Что за вопрос! Хоть сейчас. — И делает пометку.
На песок ступает старуха, крашеная блондинка, она тащит за собой белого пуделя, до середины туловища — мохнатого, а от середины к хвосту — остриженного, клубок, наполовину лысый, наполовину пушистый и, судя по просвечивающим розовым пятнам, блохастый; пудель смотрит черными испуганными глазками.
— Иди. Чип, иди, золотко, — приговаривает старуха и, повторяясь, рассказывает, будто Чип для нее как сын, но сейчас бы она его уже не взяла — столько с ним хлопот, да что поделаешь? Теперь, когда он есть, она ему ни в чем не отказывает, без нее он скулит и тоскует, бедный Чип, он лучше людей, у него больная печень, но он может прожить еще десять лет, бедный Чип. — Иди, мой хороший, иди к своей мамочке.
— Тебе бы хотелось поменяться… — начинает Фрика.
— С ней? — в ужасе спрашивает Альберико.
— Нет, с Чипом.
— Я готов, — соглашается Альберико и делает пометку в книжке.
— А я бы и с ней поменялась, — говорит Фрика. — У нее хоть Чип есть. — И она делает свою пометку. Вернее, сразу две.
Они подошли к сапожнику, работающему на углу улицы в тени густых пыльных дубов. Она подает ему сандалию, и он, склонившись над столиком, действует дратвой и сапожным ножом. Сверху льется протяжная песня, нежная, пронзительная, то грустная, то радостная. Замысловатый узор света в темноте.
— Это синица, — объясняет сапожник. — Она поет уже много лет. Из того, что было хорошего в мире, только она и осталась.
Они зачарованно слушают. Альберико делает пометку в книжечке.
— С сапожником? — спрашивает она шепотом.
— С синицей, — отвечает он, — хотя если подумать, то почему бы и нет? — И прибавляет еще пометку.
Она кивает и в свою очередь делает пометку — всего одну, относящуюся к синице.
Прошло столько лет с тех пор, как они поженились, быть может, их соединили лишь вагнеровские имена, но теперь уже ничего не изменишь. И это продолжается часами, в воде и на суше, за столом и на улице, в постели или когда они лежат в шезлонгах: а вечером они подводят итоги, чтобы узнать, кто набрал больше очков, кто из двоих несчастнее, кому больше хотелось бы поменяться с другими…
Когда он в порыве нежности в первый раз назвал ее «пантеганой», своей дорогой пантеганой, она не увидела в этом ничего предосудительного.
— Пантегана? Что это такое? Животное, цветок?
— Животное, — ответил он. — Изящный пушистый зверек вроде ласки, хорька или шиншиллы…
Но в тот вечер, едва гондола, миновав мост Риальто, вплыла в темный канал и качнулась от неожиданного всплеска, и она, пьяная от счастья, подняв лицо к гондольеру, спросила: «Что случилось?» и услышала в ответ: «Это пантегана», — грянула буря.
— Это крыса, — сказала она, в ужасе следя за дорожкой на гнилой воде канала. — Грязная водяная крыса. И ты посмел…
— Я? — испугался он. — Крыса? Да что ты говоришь? Посмотри получше (дальний конец водяной дорожки был уже еле виден), никакая это не крыса. Это кто-то с чудесным мехом, может, выдра, а может, бобр…
Водяная дорожка исчезла, но послышался новый всплеск, более громкий, чем предыдущий, и, когда гондола проплывала под фигурой Богоматери, освещенной гирляндой фонариков, женщина увидела плывущую пантегану — скользкое тучное тело, омерзительный длинный хвост, похожий на стержень пробочника, морду, торчащую из воды среди опилок, лимонных корок и другого мусора, мутные глаза, длинные обвислые усы, быстро гребущие лапы.
— Пантегана! Какой ужас! Плывите за ней, я хочу ее рассмотреть! — кричала женщина.
Мужчина повернулся к гондольеру, жестом умоляя его ехать дальше. Но тот притормозил веслом, так чтобы гондола держалась в нескольких метрах от грязного животного. На мгновение стало темно, однако тут же сноп света из освещенного окна упал на маленькое плывущее чудовище. Женщина щурила близорукие глаза.