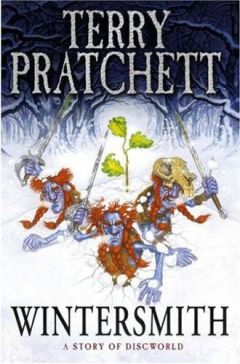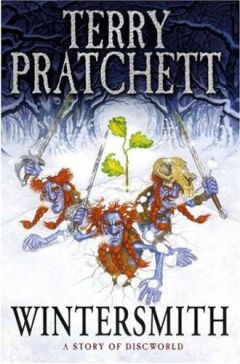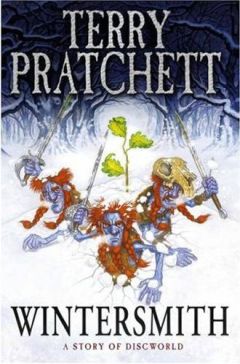__________
Дни после отъезда Филиппа прошли для Сабины легче, чем она ждала.
Огромная усталость притупляла остроту воспоминаний. Она почти что наслаждалась свободой и отдыхом, полюбила спать, бродить по пустому дому, играть на рояле. От Филиппа приходили страстные, горячие письма, переполненные этим детским смехом, этим умением схватывать все и всему радоваться, этой любовью к бытию, так прекрасно горевшими на его лице и в его жизни.
Она тихонько мечтала о нем.
Наступала осень, еще зеленая и холодная, как незрелая груша.
В Париже, где она осталась по слабости и лени, ее стала преследовать природа, прежние радости.
Она вспоминала одно свое лето, в детстве, в Тироле, с свежими и жаркими деревенскими утрами, пахнувшими солнцем, мокрой землей, мхом и цикламеном. В ней также проснулась тоска по Турену, по саду ее отрочества, который отец ее продал и которого она уже больше не увидит.
Она вспомнила, как просыпалась сентябрьским утром в прохладной комнате, где сонные осы тихонько умирали внизу оконных рам.
Она вспомнила фруктовый сад, дома, покрытые холодной росой и похожие на желто-красные колесики, запах зерна и воды в голубятне.
На лужайке стояло два атласских кедра, шелковистых и переливчатых, как мех голубой лисы, и поднимались на полуденном солнце легкие стаи насекомых, дрожащие, как золотистый пар.
Она когда-то любила скотный двор, опрокинутые миски с кукурузой, маленькие искусственные скалы, где лазил зеленый павлин, такой печальный от медленного приближения осени.
Она когда-то грызла розы, которые становились тогда нежными, бледнеющими трупами; сосала круглые камешки, цвета серого сахара и ландыша, держала в руках тоскующих лягушек, чья маленькая шея билась так, как, должно быть, бьется в самой глубине цветочной чашечки сердце обольстительных цветов.
Она вспоминала, какие там, к концу сентября, стояли еще прекрасные дни, с закатами, такими грустными и нежными, с такою нежностью в траве и воздухе, что каждый час казался волнующим и слабым, как лица, которые хочется поцеловать в губы.
Ей опять захотелось на волю. Мария нежными, преданными письмами звала ее в Брюйер.
Анри де Фонтенэ писал ей часто; в своих письмах, полных путевых заметок, дружбы и спокойствия, он умолял ее уехать из Парижа, вредного в эту пору, и поселиться с его матерью и Марией, где она отдохнет от своей бродячей жизни и поправится. Мысль, что она поступает по желанию Анри и этим его радует, пробудила в ней нечто вроде умиленного удовлетворения.
Она подумала, что он простой и добрый человек, и радовалась, что он счастлив.
Она сказала себе, что если бы вышла за него замуж годам к шестнадцати, если бы их дочь не умерла, если бы он иногда говорил с ней о себе и о ней, если бы он ее как-то тверже и все же как-то нежней любил, она бы осталась ему верна.
Она приехала в Брюйер на прекрасном холодном закате, желтыми полосами лежавшем над лиловыми холмами. Дорогу до замка она прошла пешком, полем. Группы деревьев вдали напоминали волны. Наступала тень, ветра не было.
Воздух и вечер опьяняли ее. Подняв голову, она увидела елку, такую спокойную в вечернем воздухе. Она немножко постояла перед ней и с грустью позавидовала ей, живущей так высоко, в прекрасной тайне пространства и ночи…
По мягкому песку аллеи она медленно дошла до ворот замка; в мирной, слабо освещенной гостиной она застала мать Анри, Марию и Жерома. Мать Анри писала письма, которые тут же, с большим выражением, читала себе вслух, Мария вышивала, Жером ходил по комнате и курил. Мария при виде ее быстро встала.
Она чувствовала нежность ко всем троим, ей захотелось взять их за руки, сказать им: «Милые, милые!»
Все ей было отдыхом и радостью. Она почти не думала. Воспоминание о Филиппе было в ней, как сердце в теле: деятельно и безмолвно.
Она отдыхала, вспоминала, наблюдала. Ей казалось, что целые годы прошли в ее любви к Жерому… что тогда она была маленькая девочка, с утра до вечера бегавшая и кричавшая в зелени. Она уже не помнила, как тогда страдала, ей казалось, что эта любовь — ее юность, что даже страдания в ней были мимолетны и легки, как гнев ребенка.
Теперь она знала другую муку.
Этот мальчик, которого она любила, был ей теперь так безразличен, так нежно-безразличен, что она чувствовала к нему прямую, ясную дружбу, трудно дававшуюся ей с мужчинами. Она радовалась, что Мария счастлива.
Немного устав и рано улегшись после обеда, Сабина думала. Воздух в комнате был чистый и легкий.
Она думала, что у монашенок, давших обет целомудрия и покорности, должно быть, бывают в прохладных дортуарах такие белые, безмятежные вечера… Она уснула в непривычном для нее покое, уронив вокруг себя жизнь, как спущенную одежду.
IX
На следующее утро, пока в комнате раскрывали ставни, она, вся еще сонная, спросила письма. Она думала об этом во сне, с самого начала серого рассвета, — о том, что ее ждет письмо от Филиппа. Среди поданных ей писем она сразу узнала на конверте почерк Филиппа Форбье, — нервный и буйный, эллипсический и сжатый, говорящий о молниеносной мысли и краденом времени. Она затуманенным взглядом прочла это жгучее, живучее письмо, после которого она потом целый день хранила на лице эту прерванную, сдержанную улыбку, эти таинственные углы губ, которые Пьер сравнивал с туманными улыбками Винчи, все еще удерживающими на губах блаженное наслаждение…
Если это уже так кружило ей голову, — чем же будет встреча! Это примиряло ее с настоящим. Но иногда Филипп получал от нее кричащие страницы, где бушевали все чудесные возможности ее желания.
Филипп всем существом своим наслаждался этой изумительной душой, всегда опустошенной и всегда переполненной, где радость и жалость, разочарование, надежда, лихорадка, усталость и отчаяние были той же плоти и крови.
Филипп Форбье, в самое мудрое и осторожное мгновение своей жизни изысканно влюбленный в работу, готовый на все безумия и все же склонный к покою, наблюдал у Сабины с успокаивающей его уверенностью ту особенную, изумительную легкость, с которой она управляла отчаянием, ускоряла и отстраняла безнадежность; из слез она выходила еще более живучей, еще более жадной к жизни. Печаль в ней была, как болезнь: то же изнеможение, то же трудное дыхание, — и каждый раз она, казалось, окончательно выздоравливала.
Филипп вспоминал, как она входила к нему летом, расстроенная и угнетенная, и когда он, встревоженный, начинал ее расспрашивать, не то смеясь, не то плача, отвечала:
— Ах, опять у меня сегодня были тысячи выносимых невыносимостей!
Когда он, однако, начинал смеяться над резкими скачками ее настроения, она совсем без улыбки говорила:
— Не надо об этом, вы меня не знаете. Вы не можете знать, какая я, когда вас нет, а когда вы здесь, я — вы…
Но он видел, как она живет, и не упадки ее его тревожили. Его тревожили ее бездомные, безродные мечтания, жадное, ненасытное любопытство ее ослепительных глаз и ее открытый смех, как бы кусающий неизвестность.
— Как я ее удержу? — думал он. — И кто запретит ей хотеть и быть… В каждое ощущение она входит, как на остров, отделяющий ее от всего и всех. Она принадлежит музыке, которую слушает, и книге, которую читает. Она говорила мне, что, перечитывая недавно «Исповедь» Жан-Жака, позавидовала его любви к г-же д'Удето. В один прекрасный день она уйдет or меня, как пришла, стараясь причинить мне возможно меньше боли, — ведь она не злая; и доброта ее будет хуже всего. Я, останусь ее другом, потому что от нее не уходят, и в душе она верна. Она придет, будет сдержанной. Она подумает: «Как я могла его любить?!» — и будет смотреть нарочно непомнящими глазами, и это будет мне — жесточайший запрет… И, прощаясь, она быстро выдернет свою руку, чтобы я не имел времени вспомнить.
Однако эти мысли не слишком омрачали счастье Филиппа Форбье.
Выйдя из возраста, когда рассчитываешь на бесконечность, и от природы не заботясь о завтрашнем дне, он смотрел на Сабину, как на восхитительную драгоценность, одолженную ему судьбой.
Он любил ее мрачной страстью, но также и этой сознательной своей стороной, делающей для него наблюдение радостью, и еще прирожденным весельем деятельных умов, которые не могут отказаться от возвышенных занятий и больше останавливаются на радости, чем на печали. Сознание благородной, полной и щедрой жизни лишало его детской грусти любовного служения.
Наряду со страстью у него еще была к ней бесконечная снисходительность; он освободил бы свою подругу от всякого долга и оправдал бы каждый ее поступок.
Он знал, что одно у него, по крайней мере, никогда не отнимется: его власть над Сабиной, — власть его слабости, его силы, его ума, — и думал, как Ницше: «Женщина — невинна; чьи руки когда-либо были для нее достаточно нежны!»