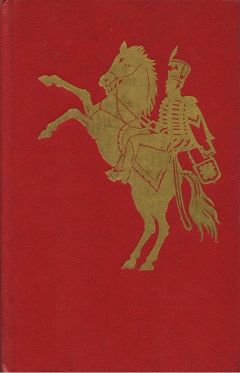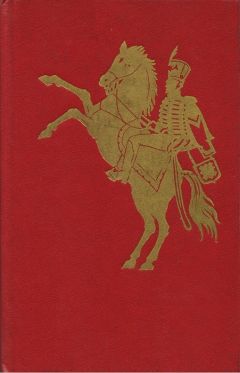Эти поля, этот двор, это королевство, что я говорю — эта империя, воздвигнутая вокруг Жюли, была материальной защитой ее счастья, которое он обеспечивал, таким образом, швейцарской гвардией и придворными; он сложил с себя полномочия духовного защитника от согласия ее на роковой удел, каковым он предполагал стать. Против этой ее потребности он оказался совершенно бессилен, она была у нее в крови, как у других в крови есть потребность быть шкурой.
Хотя для всех нас он всегда оставался выдающейся и блистательной личностью, ему от этого проку было мало! Единственное существо, перед которым он хотел бы блистать, не смотрело в его сторону. Вы до крайности удивили бы Жюли, если бы заявили ей, что она не любила своего мужа и не была ему верна: это она-то, которая жила только для него, старалась во всем ему угодить и обожала его с того самого вечера, когда он похитил ее из городского казино, вырвал из наших лап. Но г-на Жозефа не перехитришь. У его жены было прошлое, о котором он не мог забыть, о котором думал беспрестанно. Какая-нибудь мошка, или черешня, или рыболовный крючок вольны были в любую минуту отобрать ее у него. Она не из тех, кто кричит, отбивается, зовет на помощь и гибнет только на исхо-' де последних сил. Ее любовь была направлена в эту сторону: она себя предлагала. Разве не она давала всевозможные авансы? Рок есть не что иное, как разумное начало в сущем, которое потворствует тайным желаниям того, кто, как кажется, становится его жертвой, но на самом деле призывает, увлекает и соблазняет его.
Забегая вперед, чтобы лучше показать, к чему привело лукавство этого редкостного образца, могу сказать: г-н Жозеф — и это было естественно, учитывая его возраст, — умер раньше Жюли смертью, в которой не было ничего, достойного порицания. Я вспоминаю несколько дней, предшествовавших его окончательному успокоению. Я находился возле его постели, был если не подавлен, то по крайней мере сильно расстроен и никогда не забуду один короткий разговор. Г-н Жозеф, с уже заострившимися чертами лица, выглядел очень спокойным и умиротворенным. Жюли не отпускала его руки и говорила ему о вечной жизни. «Уверен, что ее нет!» — сказал он. «Почему?» — спросила она тихим голосом. «Увидишь», — ответил он со снисходительной улыбкой.
Из-за чего-то, похожего на «благодать состояния», мне не верится, что г-н Жозеф когда-нибудь задумывался о том, что Леоне тоже несет в себе рок Костов. Он брал молодого человека с собой (с нами) при объезде полей изо дня в день и на весь день.
Мальчик был, надо сказать, очень хорош собой. Скрытный и мрачноватый, с лицом, которое дышало одновременно добротой и пылкостью, он был неотразим (если судить по той привлекательности, какой он обладал даже для меня). Глаза у него были в буквальном смысле слова как у газели, они загорались при малейшем проблеске чувства. Сильный, как турок, он явно всегда был готов предаться самой дерзкой отваге, но при этом всегда был любезен, почтителен, прекрасно воспитан.
Он превосходно ездил верхом. Службу прошел в спагй (в недавно созданных частях, которые имели в то время особенно парадный вид). Я знаком по меньшей мере с тремя местными молодыми дамами, которые предприняли путешествие в Тараскон, чтобы только полюбоваться на Леонса в красной форме.
Леоне познакомился с одной барышней, Луизой В. Она происходила из очень достойной семьи: промышленники и богачи В. воспитали свою единственную дочь, не избаловав ее и очень хорошо. Она была образованна и умна, к тому же очаровательна и, по всему видать, влюбилась в первый раз. Словом, по возвращении наш «рыцарь печального образа» прожужжал нам о ней все уши. Он и в разлуке хранил ей непоколебимую верность и употребил всю свою прямоту, презрение и возвышенные порывы на то, чтобы без обиняков высказать нашим глупышкам свое мнение об их поведении, чем весьма их раздосадовал и причинил им подлинные страдания. Он вкладывал свой мрачный пыл в ежедневную, иногда по два раза на дню, переписку, которую вел с Луизой, и буквально только и жил, что теми письмами, которые каждый день от нее получал.
Надо было наконец пригласить семейство В. в гости. Состоялся прием, во время которого г-н Жозеф выказал неподражаемую любезность и бесподобную обворожительность, а Жюли, впервые в жизни, пела перед всеми. Она потрясла нас до самой глубины души. Я выпил немного вина; я плакал. И я был не единственным; у всех у нас на глазах блестели слезы. Тут я немного приврал, но приврать необходимо, потому что иначе мне не передать торжественности (это слово отнюдь не кажется мне слишком сильным) этого дня. Даже В., которые прибыли из дальних мест, были у нас впервые и ничего, как я полагаю, не знали о судьбе Костов, были потрясены случившимся. Я имею в виду не только пение Жюли, всего лишь занявшее свое место в общей картине, они были потрясены той почти колдовской атмосферой, в какой все происходило. Все мы передвигались словно в аквариуме, с медлительностью, в которой было как бы сомнение в уместности малейшего нашего жеста. Даже наши пташки, иные из которых там были, утратили блеск своего оперения. Бог мне судья, если нельзя было обнаружить крупиц истинного чувства в их глазах! Леоне и Луиза, рука об руку, глаза в глаза, не видели никого, кроме друг друга, и хранили на губах, с самого начала и до конца, чудесную улыбку, грустную и счастливую.
У меня еще до свадьбы была возможность часто беседовать с Луизой. Г-н Жозеф оставался непреклонен в том, что касалось осмотра поместья, верхом на лошади, каждое утро. Он требовал присутствия рядом с ним Леонса. Тот даже не пытался его ослушаться. Он и в самом деле вел себя как мужчина, и в том, что имело отношение к его ухаживаниям за невестой, и в том уважении, какое он всегда проявлял к отцу. Впрочем, г-н Жозеф нуждался в бережном обращении и даже в некоторой опеке. Он перенес совсем крошечный апоплексический удар. Все нанизывали одно на другое разные уменьшительные словечки, но самое первое предупреждение он как-никак получил. В его возрасте оно не могло иметь другого смысла, кроме того, который был понятен всем. Ведь и у меня случались уже такие прострелы, что не только лошадь, но даже продолжительные пешие прогулки были мне противопоказаны. Впрочем, мне перевалило тогда за пятьдесят.
Луиза, встав спозаранку, присутствовала при отъезде своего кавалера, а потом любила еще помечтать на террасе. Я приходил туда же погреть ноги, когда заканчивал окончательную выверку очередного счета.
Это была самая чудесная девушка, какую только можно представить себе в мечтах. Как давно пора бы заметить, женщины не внушают мне уважения; мне тем более приятно было сознавать, что эта девушка — само совершенство.
Она казалась словно по мерке созданной для Леонса.
Он мог воистину посвятить ей жизнь. Что он и делал, без колебаний и с присущим ему чистосердечием, но, кроме того, и со всей необходимой серьезностью. Его живой ум, его чувствительность, обостренная наследственностью, предельно остро обнаруживающейся в нем; возможно даже инстинкт, который упрямо влечет нас к счастью, дали ему, мне думается, достаточно полное сознание достоинств Луизы. Ни с какой стороны не оставалось места ни для двусмысленности, ни для недоразумений. Трудности (если таковые и имелись) выглядели заранее устраненными. Ни со стороны семейства В., ни со стороны де М. нельзя было найти, к чему бы придраться. Лишь одно меня пугало: все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой.
Мне потребовалось довольно много времени, чтобы избавиться от своего страха. Первые годы брака, если судить по тому, что происходило у меня на глазах и вокруг меня, сложились необыкновенно удачно в житейском плане. Не было ни тени чего-нибудь подозрительного. Последующие годы были еще прекрасней, если таковое возможно. Каждый день, похоже, старался еще раз подтвердить безоблачное счастье, в высшей степени неизменное.
Случались, конечно, как и должно быть, мелкие неприятности, маленькие огорчения (к счастью, могли бы мы сказать), среди которых то обстоятельство, что их брак, по-видимому, не был отмечен печатью плодовитости. Врачи, к которым обращались за советом, все как один утверждали, что в этом не было ни вины мужа, ни вины жены. «Игра случая, — говорили они, — которая всех ставит в тупик, все может перемениться со дня на день».
Не знаю почему, но это необъяснимое бесплодие меня успокаивало, или, точнее сказать, знаю почему. Я говорил себе: «На этот раз общая сумма счета не чудовищна. Запредельно высокой цены не назначили. Можно уплатить — и не разориться. Косты в конце концов умрут естественной смертью. Пускай пройдет еще десять, если угодно — двадцать лет этого неомраченного счастья, и даже самый жестокий и предательский удар будет вполне приемлем». Я готов был признать, что он приемлем был уже и тогда, поскольку нечего было желать сверх того, что эти два существа имели.