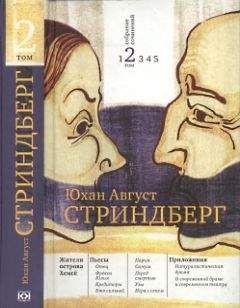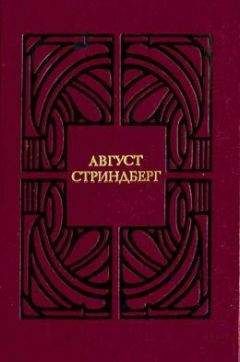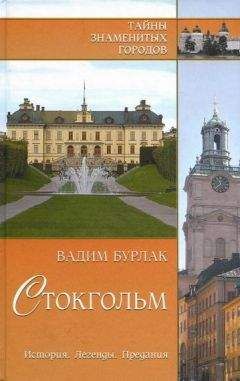Управляющий был когда-то главным рабочим на руднике; он был настолько умен, что сумел завязать хорошие отношения с акционером и исполняющим обязанность члена совета, и достаточно был дальнозорок, чтобы оценить, как долго будет существовать это дело.
Однако новая каменоломня подействовала на материальное и нравственное положение островитян, а присутствие тридцати неженатых рабочих не прошло без влияния.
Покой был нарушен. Весь день раздавались выстрелы на горе; на бухте гудели пароходы; сновали яхты и ссаживали моряков на берег. По вечерам рабочие появлялись на дворе мызы, окружали колодец и конюшню, подстерегали девушек, устраивали танцы, пили и боролись с парнями.
Жители мызы гуляли все ночи напролет, а днем ничего нельзя было с ними поделать: они засыпали на лугу или дремали у печки.
Иногда приходил в гости и управляющий. Тогда приходилось заваривать кофе, а так как барину нельзя было предложить водки, то приходилось иметь в запасе коньяк.
Впрочем, хорошо сбывались рыба и масло; деньги прибывали; жилось раздольно, и мясо чаще прежнего появлялось на столе.
Карлсон пополнел; весь день он ходил в состоянии небольшого опьянения, сильно, однако, не напиваясь. Все лето прошло для него как один сплошной праздник, так как он делил время между общественными делами, каменоломней и украшением местности.
Осенью он на неделю уехал на осмотр строений для предупреждений пожара. Вернувшись домой однажды рано утром, он был встречен тревожным сообщением старухи о том, что что-то произошло на Роггенхольме. Уже четыре дня как там совершенная тишина: не раздавалось ни одного взрыва, и на бухте не слышно было гудков пароходов. На усадьбе все заняты были молотьбой, так что некогда было посмотреть, что делалось в каменоломне. Не видно было управляющего, и рабочие вечером не появлялись на дворе. Что-то должно было произойти.
Чтобы скорей узнать, в чем дело, Карлсон велел «запрягать»: так говорил он, когда приказывал везти себя на гребной лодке к каменоломне. Лодку он выкрасил в белую краску с голубою каймой. А чтобы придать лодке более барский вид, когда он садился к рулю, то из старого шнура от занавески сделал себе тали; таким образом он мог сидеть прямо у руля. Рундквиста и Нормана он заставил грести правильно, по-матросски, чтобы он мог красиво подходить на лодке.
Они поехали на сей раз очень быстро, подстрекаемые любопытством. Дойдя до Роггенхольма, они поразились, увидя царившую там пустоту.
Все кругом было тихо, как в могиле, и ни души не было видно. Они причалили к берегу и поднялись по каменной лестнице к каменоломне. Дома управляющего не было; все инструменты и снаряды исчезли. Только сарай, прозванный казармой, стоял на своем месте, но пустой; все, что можно было, увезли: двери, окна, скамейки, койки.
— Мне кажется, они выбыли! — заметил Рундквист.
— Похоже! — ответил Карлсон и снова велел «запрягать», но на сей раз, чтобы отправиться в купальное местечко Даларё; там на почте должно было быть для него письмо.
Действительно, там он нашел объемистое письмо от директора, уведомлявшего его, что общество прекратило свою деятельность, потому что выяснилась непригодность сырья. А так как остающиеся за обществом четыре тысячи крон равняются как раз стоимости сорока акций, за которые он до сих пор еще ничего не внес, то всякие расчеты между обществом и Карлсоном должны считаться оконченными.
«Итак, я обманут на четыре тысячи! — подумал Карлсон.— Ну-с, надо удовольствоваться и тем, что мы получили».
У него было свойство морской птицы, хотя он и был уроженцем центра страны: он мог встряхнуться и выйти сухим из воды. Он еще почувствовал себя более сухим, когда прочел приписку, гласящую, что все, что осталось, поступает во владение островитян, если бы они желали это сбыть.
Сконфуженный, вернулся домой Карлсон, лишенный больших денег и почетного звания.
Густав хотел было подсыпать соли в рану, но Карлсон остановил его жестом руки, как бы подведя черту подо всем.
— Ах, об этом не стоит и говорить! Не следует терять теперь времени на разговоры по поводу этого!
На следующий же день он деятельно занялся с своими тремя мужчинами тем, что на большом пароме вывозил с Роггенхольма доски и кирпичи.
Не успели и оглянуться, как он соорудил себе для летнего пребывания домик в одну комнату с кухней, и это внизу у пролива, на таком месте, о котором раньше никто не помышлял, но с которого открывался вид на деревню и на открытое море.
Прошло лето с своими воздушными замками. Близилась зима. Воздух стал тяжелей, сны мрачней, а действительность преобразилась: она стала светлей для одних и более грозной для других.
Супружество Карлсона, хотя еще и непродолжительное, нельзя было назвать счастливым. Старуха была хотя и не в преклонном возрасте, но и немолода, а Карлсон достиг самого опасного периода. Он теперь вступил в четвертый десяток, до этого времени он много работал на свое пропитание и для того, чтобы подвинуться вперед; а девушки, о которой мечтал, он не получил. Теперь же, когда он достиг цели и видел перед собой тихую спокойную старость, в нем забушевала плоть, быть может сильней обыкновенного, потому что за последний год он менее усидчиво работал или потому, что питал свое тело больше, чем следовало бы. Поэтому, когда он сидел в теплой кухне, мысли его стали пошаливать, и он начал обыкновенно следить глазами за молодой фигурой Клары, когда она ходила взад и вперед по кухне. Взоры его понемногу стали останавливаться, отдыхать на ней, потом бросали ее, улетали в разные стороны и опять возвращались. Наконец девушка ему приглянулась, и, куда бы он ни шел, он всегда видел ее перед собой.
Но наблюдала и другая, только не за ней, не за Кларой, а за теми глазами, которые за нею следили; и чем более она глядела, тем больше ей представлялось; у нее как бы ячмень вырос на глазу и болел и расплывался.
Оставалось несколько дней до Рождества. Наступила темнота, но затем взошел месяц и осветил покрытые снегом сосны, сверкающую бухту и белую землю. Небольшой северный ветер подымал сухие хлопья снега.
В кухне стояла Клара и растапливала печь, пока Лотта месила тесто в квашне. Карлсон сидел в углу у шкафа, курил трубку, свернувшись, как кошка в тепле. Глаза его согревались и улыбались, когда они останавливались на выступающих из рукавов рубашки белых руках Клары.
— Не думаешь ли ты сначала подоить коров, раньше, чем здесь подмести кухню? — спросила Лотта.
— Да, надо идти доить,— ответила Клара; отложив в сторону кочергу и раздувало, она надела кофту из овечьей шкуры.
Затем она зажгла фонарь и вышла. Когда она ушла, Карлсон встал и пошел за ней. Через некоторое время пришла из комнаты старуха и осведомилась о том, где Карлсон.
— Он за Кларой пошел в конюшню,— ответила Лотта.
Не расспрашивая дальше, старуха взяла фонарь и тоже вышла.
На дворе дул резкий ветер, но она не хотела возвращаться и надеть что-либо на себя, потому что пройти до конюшни надо было всего несколько шагов. Она поскользнулась на камне, а снег кружился вокруг нее как мучная пыль, но она все же довольно скоро дошла до конюшни и вошла к коровам, где было тепло. Там она остановилась, прислушиваясь, и расслышала, что в овчарне кто-то шепчется. При слабом свете луны, просвечивающей сквозь паутину и стебли сена, застилающие оконце, она видела, как коровы тихо поворачивали головы и глядели на нее большими глазами, в темноте светившими зеленым светом. Тут стояли скамеечка и ведро. Но не это она искала, а что-то другое, что-то, чего ей ни за что на свете не хотелось видеть, что-то, что привлекало ее, как смертная казнь, что-то, что убивало в ней жизнь.
Перелезая по кучам сена, она прошла через коровник и проникла к овцам. Там было темно и тихо; стоял фонарь, но он был потушен, хотя огарок сальной свечки еще чадил. Овцы поднялись и зашумели сухими ветками. Нет, не этого она искала.
Она пошла дальше и пришла к курам. Они взлетели на нашесты и слабо кудахтали, как будто их что-то только что разбудило.
Дверь была отворена, и она снова вышла на освещенный луною двор. В снегу виднелись следы двух пар башмаков, маленьких и больших; эти следы в тени казались синими и вели к приотворенной калитке. Она пошла за ними, как будто кто-то тащил ее; по земле тянулись следы, как цепи; она привязана была к этой цепи, и ее тянуло с какого-то невидимого ею места.
А цепь все тянула и тянула ее в тот же загон, к тому же плетню, под те же кусты орешника, где она уже однажды, в ужасный вечер, пережила час, о котором ей вспоминать не хотелось. Теперь кусты орешника стояли голые и покрытые лишь молодыми почками, похожими на маленьких гусениц капустницы; на дубах шумели от ветра коричневые жесткие ветки, которые сквозили настолько, что ясно видны были звезды и темно-зеленое небо.