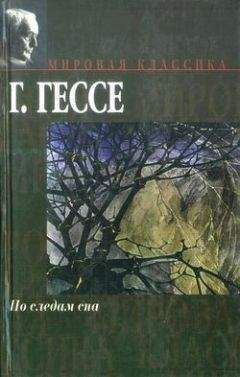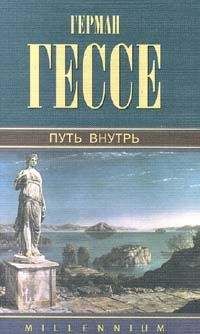Таково примерно было содержание нашей беседы, которая, как было условлено, длилась чуть более четверти часа. Говорил почти он один, я ему не возражал, не указывал на то, что, уж если исповедуешь открытость и все-приятие, не следует так злиться из-за книги, что жаждешь надрать автору уши; не думал я во время этого разговора и о том, что моя книга, как любое произведение искусства, таит в себе не одно только содержание — более того, как раз содержание может быть относительно несущественно, так же как и намерения автора, ибо главное для нас, художников, — чтобы в соответствии с этими намерениями, взглядами, мыслями возникло бы из словесной ткани некое творение, чья неизмеримая ценность была бы выше измеримой ценности содержания. Я не мог всего этого высказать хотя бы по той причине, что во время нашего «обмена мыслями» мне это просто не пришло в голову, и потому, что, слушая, с какой великолепной страстью мой собеседник говорит о моей книге, я поневоле вынужден был с ним соглашаться. Ведь он говорил только о содержании, все остальное его не трогало. Я готов был во время этой четверти часа и вовсе отказаться от своей книги, если бы это было возможно, так как не только критика читателя, поскольку она касалась заключенных в книге мыслей, представлялась мне весьма справедливой, но мне было также искренне жаль, что я причинил этим такую досаду чистому и благородному сердцу.
Молча и с какой-то подавленностью глядел я то на лицо и руки моего критика, которые не были морщинистыми и вялыми, как мои собственные, а, подобно его голосу и всему его живительному облику, были молоды, упруги и полны сил; то я углублялся в изучение прекрасных орнаментов и оттенков древесных пород на шахматном столике, за которым мы сидели, два игрока, и который, вероятно, будет свидетельствовать о вкусе и любви к игре своего давно позабытого создателя даже тогда, когда мой юный партнер тоже состарится, и увянет, и устанет от слов и суждений.
Моя жена в этой беседе не участвовала, не стоило смущать молодого человека. Но теперь, когда четверть часа миновало, она появилась и подсела к нам, и под ее защитой я, в продолжение всего разговора едва ли раскрывший рот, произнес несколько слов, которые, вероятно, звучали успокоительно и примиряюще.
Как ни охотно я распрощался с юношей и как ни бесполезно было бы продолжение нашей беседы, в глубине души мне было жаль, что мне нечего дать и нечего противопоставить этому искренне ищущему человеку, кроме маски усталого старца, которому давно уже неинтересно выслушивать суждения о его книгах и тем более защищаться от этих суждений. Я охотно подарил бы ему какую-нибудь красивую вещицу на память, чтобы хоть что-нибудь приятное осталось у него от этого часа, который сам я первоначально воспринимал как нечто фатальное.
Прошел еще ряд дней и ночей, прежде чем рассеялось то дурное настроение, в которое меня повергла эта встреча, и я утешился мыслью, что упорное молчание старика и его нежелание спорить послужит этому юноше, когда ему вновь откроется дао, поводом для столь же плодотворного раздумья и медитации, как и всякое иное поведение, которым я мог бы ответствовать на его призыв.
Рождество с двумя детскими историями
Когда кончился наш маленький тихий рождественский праздник, еще до десяти часов вечера 24 декабря, я был достаточно усталым, чтобы порадоваться ночи и постели, а прежде всего тому, что впереди у нас было целых два дня без почты и без газет. Наша большая жилая комната, так называемая библиотека, являла такую же картину беспорядка и измотанности, как наше внутреннее состояние, но куда более веселую, ибо хотя праздновали мы только втроем, хозяин дома, хозяйка и кухарка, елочка с догоравшими свечами, ворох цветной, золотой и серебряной бумаги и лент, цветы на столах, новые книги, наваленные друг на друга, картины, акварели, литографии, гравюры, детские рисунки и фотографии, то ровно, то устало и слишком наклонно прислонившиеся к вазам, все-таки придавали комнате какую-то необычную, праздничную переполненность и взволнованность, что-то от ярмарки, что-то от сокровищницы, какое-то дыхание жизни, какой-то налет глупости, ребячества, баловства. И сюда привходил воздух, столь же беспорядочно и озорно перенасыщенный запахами, воздух, где соседствовали и смешивались смола, воск, горелое печенье, вино, цветы. Еще в этой комнате и в этом часе скопились, как то подобает старикам, картины, звуки и запахи многих, очень многих праздников прошедших лет, семьдесят и больше раз после первой великой встречи с ним посещало меня Рождество, и если у моей жены было за плечами куда меньше лет и рождественских праздников, то зато чувство чуждости, дальности, утраченности и невозвратимости родины и защищенности было у нее острее, чем у меня. Если в последние напряженные дни придумывание и упаковка, получение и распаковка подарков, необходимость помнить о настоящих и ненастоящих обязательствах (последние мстят за упущение часто неумолимее, чем первые) да и вся лихорадочно-бурная деятельность рождественской поры в наше беспокойное время задавали уже нелегкую работу, то эта новая встреча с годами и праздниками многих десятилетий была еще более трудной задачей, но по крайней мере настоящей, осмысленной, а настоящие и осмысленные задачи наделены благословенной способностью не только требовать и поглощать, но также помогать и подкреплять. А уж в цивилизации разваливающейся, заболевшей отсутствием смысла и умирающей ни для отдельного человека, ни для сообществ нет иного лекарства, иной пищи, иного источника силы продолжать жить, чем встреча с тем, что наперекор всему придает нашему бытию, нашим действиям смысл и нас оправдывает. И при воспоминании о праздниках и обстоятельствах всей жизни, когда заглядываешь в любимые, давно погасшие глаза, оказывается все-таки, что существует какой-то смысл, какое-то единство, какая-то тайная сердцевина, вокруг которой мы, то зная, то не зная о ней, кружили всю свою жизнь. От пахнувших воском и медом кротких рождественских праздников детства, в еще целом и невредимом, как то казалось, в нерушимом, не верившем, что его можно разрушить, мире, через все перемены, кризисы, потрясения и образумляющие уроки нашей частной жизни и нашей эпохи, мы пронесли и сохранили в себе некое ядро, некий смысл, некую благодать, некую веру — не в какой-то там догмат церкви или науки, а в существование некоей сердцевины, вокруг которой даже находящаяся в опасности, даже поврежденная жизнь всегда может заново найти лад и порядок, веру в то, что Бога можно достичь именно из этого сокровенного ядра нашего естества, в совпадение этого центра с присутствием Бога. Ведь там, где он присутствует, можно вынести и безобразное, и с виду бессмысленное, ибо для него явление и смысл нераздельно, для него — все смысл.
Темная елочка уже долго глуповато стояла на своем столике, уже довольно давно горел трезвый электрический свет, как каждый вечер, и тут мы увидели за окнами иной род света. День был то ясный, то пасмурный, у склонов гор за долиной озера висели порой продолговатые узкие облака, все на одной высоте, они казались прочными и неподвижными, но стоило взглянуть на них снова, как они уже успевали исчезнуть или перестроиться, а в сумерки похоже было, что в эту ночь небо от нас спрячет туман. Но пока мы занимались своим праздником, елкой, свечами, подарками и своими все ближе наплывавшими воспоминаниями, на дворе много чего произошло и свершилось. Почувствовав это и погасив в комнате свет, мы увидели за окнами раскинувшийся в великой тишине донельзя прекрасный, таинственный мир. Узкая долина под нами была наполнена туманом, на поверхности которого играл бледный, но сильный свет. Над этими клубами тумана поднимались заснеженные холмы и горы, все они были освещены этим ровным, равномерно распределенным, но сильным светом, и везде голые деревья, леса, белоснежные скалы ложились рисунками на белые доски, как нацарапанные острым пером буквы, как немые иероглифы и арабески, о многом умалчивающие. А вверху надо всем этим ходило волнами просвечиваемых полной луной облаков белое, блестяще-опаловое, огромное небо, беспокойное, залитое светом полной луны, которая то исчезала, то появлялась между призрачно редеющими и вновь сгущающимися пеленами, и, когда она отвоевывала себе клок чистого неба, мы видели ее в ореоле лунной, с эльфически холодным отливом радуги, и скользящие краски повторялись в кромках пропускавших свет облаков. Жемчужный и молочный тек и струился по небу этот чудный свет, он тускнел, когда отражался внизу в тумане, он набирал силу и шел на убыль, словно чередуя вдохи с выдохами.
Прежде чем лечь спать — лампа горела снова, — я еще раз бросил взгляд на свой стол с дарами, и, как дети в сочельник берут иные подарки с собой в спальню, а то и в постель, я тоже кое-что прихватил с собой, чтобы подержать в руках и рассмотреть. Это были дары моих внуков: от Сибиллы, младшей, тряпка для пыли, от Зимели маленький рисунок, крестьянский дом со звездным небом над ним, от Кристины две цветные иллюстрации к моему рассказу о волке, смело намалеванная картинка от Эвы, а от ее десятилетнего брата Сильвера написанное на отцовской машинке письмо. Я взял все это с собой в мастерскую, где еще раз прочел письмо Сильвера, оставил все там и поднялся, борясь с тяжелой усталостью, по лестнице в свою спальню. Но я еще долго не мог заснуть, пережитое и увиденное в этот вечер прогоняло сон, и неотступные ряды образов кончались каждый раз письмом моего внука, которое звучало так: