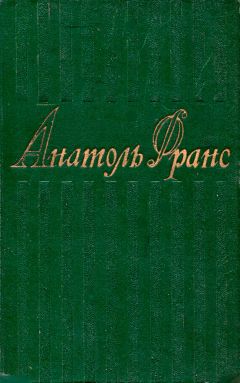На новой дощечке, у входа в новое жилище, скобки заменила запятая:
Феллер, де Сизак.
На третьей дощечке, вывешенной после третьего переезда, запятая исчезла и ничто ее не заменило:
Феллер де Сизак.
Теперь у дверей поверенного вообще нет дощечки; он снимает в городе квартиру, украшенную зеркалами, во втором этаже дома на Новой Полевой улице, а в Медоне построил себе дачу. Г-н Феллер — уроженец Сизака, что в Кантальском департаменте, близ Сен-Мамэ-ла-Сальвета; там и поныне его брат держит мельницу.
Как только г-н Феллер де Сизак проведал, что собираются сносить строения в районе Мельничного Холма и расширять улицы возле театра Французской комедии, он тотчас же разослал карточки, проспекты, извещения, а вслед за этим и сам стал посещать домовладельцев и видных коммерсантов, дома которых были предназначены на снос. Делая, как он выражался, «обход», г-н Феллер де Сизак наведался и в отель «Мэрис», к г-ну Хэвиленду, владельцу большого дома, стоявшего у начала Мельничного Холма, близ самого театра. Дом этот принадлежал роду Хэвилендов почти два века.
В 1789 году банкир Джои Хэвиленд основал там контору. Он предоставил крупные средства в распоряжение герцога Орлеанского[35], которого считал несомненным преемником Людовика XVI, полагая, что французы ограничатся конституционной монархией. Но ни события в своем безудержном ходе, ни слабовольный герцог не поддержали замыслов дерзновенного банкира. Он переметнулся на сторону двора и стал поддерживать контрреволюцию. При посредничестве красавицы госпожи Эллиот[36] он повел тайные переговоры с королевой[37] В день десятого августа, когда королевская власть пала окончательно[38], он бежал в Англию, но не потерял связей с герцогом Брауншвейгским[39] и королевским домом. Его кассир Дэвид Эварт, старик восьмидесяти одного года, пожелал остаться в Париже и защищать интересы торгового дома Хэвиленд. Вида на жительство он не добился и, попав из-за этого в разряд подозрительных, был арестован и препровожден в Консьержери[40]. Четыре с лишним месяца о нем, казалось, и не вспоминали. Наконец 1 термидора[41] 1794 года он предстал перед революционным трибуналом, был приговорен, как заговорщик, к смертной казни и в тот же день гильотинирован у Тронной заставы, названной тогда заставой Низвергнутой.
Настойчивость и преданность старика спасли банк Хэвиленда от разорения. Но в доме на Мельничном Холме конторы больше не было. Его сдавали в наем.
Дом этот, предназначенный на слом, давно уже почернел от копоти и грязи. Над окнами фасада сохранился орнамент в стиле Людовика XV. На среднем камне арки сводчатых ворот все так же строил героическую гримасу воин в каске, но ныне с одного бока он был выкрашен в синий, с другого — в желтый цвет, потому что приютился между вывесками красильщика и слесаря. Справа и слева от ворот и в проходе за ними висели дощечки с фамилиями переписчиков и театральных портных. Парадная каменная лестница с чудесными коваными перилами была осквернена пылью, плевками и салатными листьями. Над ней стоял едкий щелочной запах. На лестничных площадках слышался детский крик, а через полуотворенные двери квартир видны были женщины в капотах и мужчины в жилетах — так небрежно бывают одеты или усталые труженики, или бездельники.
Таков был дом Хэвиленда, доживавший свои последние дни.
Господин Феллер де Сизак, взявшийся охранять интересы Хэвиленда, осмотрел его владение. Он установил, что длина дома равна тридцати метрам по фасаду, что в нем есть две лавки с кладовыми, а также тридцать одно помещение, занятое различными мастерскими, да еще сарай, где торговка овощами держала тележку, и мансарда, где строчила на машинке швея. Все это было упомянуто в докладной записке, дабы комиссия по возмещению убытка домовладельцам, назначенная городскими властями, могла определить стоимость владения. Если бы случилось, что дело перенесли в суд, г-н Феллер де Сизак выступил бы в качестве поверенного и защитника.
Господин Феллер де Сизак пригласил г-на Хэвиленда к обеду, сначала в свою парижскую квартиру, а затем на дачу, в Медон. Он потчевал у себя за столом всех клиентов, действуя так по расчету и из гостеприимства. За стаканом вина он умел войти в доверие к людям; за десертом бывал убедителен. К тому же он любил распить бутылочку-другую: пожить в свое удовольствие, как он говорил. В самую бедственную пору своей жизни он залпом выпивал стакан белого вина, закусывая жареными каштанами, за столиком, покрытым клеенкой в общем зале какого-нибудь кабачка. Тут же он давал советы лавочникам, попавшим в затруднительное положение. А теперь он принимал у себя; он обзавелся серебром и столовым бельем с вензелями.
Итак, Феллер де Сизак и Хэвиленд пили кофе. Косые багряные лучи заходящего солнца золотили столовую. Делец, бледные щеки которого еще больше обрюзгли, бросил на гостя проницательный взгляд и сказал:
— Отведайте коньячку, дорогой островитянин. Он щеголял словом «островитянин». Затем он назвал Англию — Альбионом, однако извинился за такую романтичность.
Хэвиленд выпил коньяк и, попросив стакан вина, заметил:
— Надеюсь, недомогание мадемуазель Феллер не опасно.
Феллер тоже на это надеялся, и Хэвиленд снова погрузился в молчание.
Он поднялся с английской неповоротливостью, усугубленной ломотой в суставах, — у него отнимались ноги из-за ревматических болей. Перекинув через руку желтое пальто, он вышел за садовую калитку и вдруг произнес:
— Имею честь просить у вас руки вашей дочери, мадемуазель Феллер.
Толстяк, очевидно, намеревался дать уклончивый, но бойкий ответ. Англичанин сунул ему в руки бумагу.
— Тут вы найдете точную опись моего состояния, — сказал он. — Ответ, пожалуйста, пришлите заказным письмом. Не провожайте. Не надо.
И он неуклюже зашагал к станции.
Обычно Феллера ничто не изумляло, но сейчас он был изумлен. Раз двенадцать он быстро обошел вокруг искусственного грота. Луна освещала его пухлые белые щеки — казалось, он надел маску, чтобы скрыть волнение. Он раздумывал: «Как же так? Бывает он у меня, как многие другие, как все. За год я принимаю человек двести незнакомых людей. Он все молчал, видел мою дочь раз шесть и вдруг — смотрите пожалуйста! — просит ее руки. Так, так… Впрочем… Неужели моя Елена ловко разыграла водевильчик?.. Да нет! Я не комедийный папаша, не какой-нибудь там Кассандр[42]. Я знаю, что творится у меня в доме, и уверен, что бедная моя девочка лишь раза два перемолвилась с ним словом. Боюсь даже, что она отнесется к этому не так, как должно…»
Он прикусил палец и остановился, вперив глаза в одну точку, будто измеряя возникшее перед ним препятствие. Затем решительным шагом двинулся к дому. В столовой он прочел бумагу, которую вручил ему Хэвиленд, а потом поднялся в комнату дочери. Положив сигару на розовую персидскую ткань, украшавшую каминную полку, он уселся, словно врач, у изголовья Елены. Он спросил:
— Ну, как мы себя чувствуем, малютка?
Она не отвечала; помолчав немного, он сказал:
— Сегодня вечером господин Хэвиленд весьма сердечно справлялся о твоем здоровье.
И, помедлив, добавил сочным голосом сытно пообедавшего человека:
— Нравится он тебе?
Он опять не получил ответа. Но свеча, горевшая на камине, осветила широко открытые, не мигающие глаза Елены, нахмуренный лоб, все ее лицо, выражавшее тягостное раздумье. Поэтому г-н Феллер предположил, что дочь знает о намерениях Хэвиленда, и, уже не остерегаясь, нанес внезапный удар. Он сказал:
— Господин Хэвиленд просит твоей руки.
Она ответила:
— Не хочу я выходить замуж. Мне и с тобой хорошо.
Тут он уселся на диванчик, уперся кулаками в колени, и из его горла, обожженного ликерами и умащенного сластями, вылетел хриплый вздох. Он напустил на себя обычный деловой вид.
— Что ж ты, дочурка, не спросишь, как я ему ответил?
— Ну, как ты ответил?
— Дитя мое, я не сказал ничего такого, что налагало бы на тебя какие-либо обязательства. Я решил предоставить тебе свободу. Я не считаю себя вправе навязывать тебе свою волю. Ты ведь знаешь, я не деспот.
Она облокотилась о подушку и сказала:
— Да, ты чудесный отец и не выдашь меня замуж насильно, против моего желанья.
Он сказал благодушным тоном:
— Повторяю, дочка, ты будешь свободна, как ветер, но почему бы нам не потолковать о наших делишках? Я тебе отец, я тебя люблю. И могу говорить с тобой о вещах, которые ты теперь поймешь — ведь ты уже взрослая. Так вот, поговорим же как двое друзей. Нам хорошо живется вдвоем; даже очень хорошо живется. Но у нас нет, что называется, прочного состояния. Я всего достиг своими трудами; но выбился я в люди слишком поздно, слишком поздно! Немало воды утечет, пока я сколочу тебе приданое. Да и кто знает, что нас ждет впереди? Тебе двадцать два года, и партией, которая сейчас тебе подвернулась, пренебрегать не стоит. Осмелюсь даже сказать — это просто находка. Конечно, Хэвиленд не молод. Видишь, дочурка, я ничего не приукрашиваю. Но он джентльмен, настоящий джентльмен. Он очень богат.