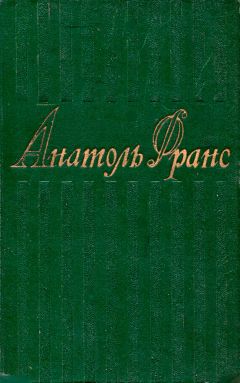Каждую неделю девочку навещал отец и приносил пирожные. Он был так обаятелен, он сиял от родительской любви и гордости.
Ходатай по делам, набивший руку на темных судебных кляузах, которому так надоело бесплодно бегать по улицам, в тревоге подниматься по лестницам, видеть, как у него перед самым носом захлопываются двери, писать прошения на краешке стола в кабаках, пачкаться во всякой грязи, подчас ловить клиента на танцульках в пригороде, за стаканом глинтвейна, появлялся каждый четверг в приемной у монахинь ордена Страстей господних вычищенный, вылощенный, свежевыбритый, в перчатках, в белоснежной рубашке. Вид у него бывал довольный, лицо отдохнувшее. Его бледные, одутловатые щеки были вполне приличны. Сестра Женевьева, начальница пансиона, уделяла ему много внимания. В дортуаре им грезили две пансионерки-старшеклассницы.
Елена восторгалась отцом.
И в самом деле, г-н Феллер был героичен на свой лад. Как-то, оставшись без гроша, он увидел на столе у одного из своих коллег томик стихов Альфреда де Мюссэ. «Хочется перечитать в сотый раз», — сказал он, беря книгу. И продал ее на набережной букинисту, зато купил перчатки и на следующий день небрежно застегивал их перед монахиней-привратницей. Пирожные, которые он приносил Елене и ее приятельницам, покупались в лучших кондитерских, а конфеты были в изящных коробках с украшениями и сюрпризами. Однажды сестра Женевьева, питавшая к нему величайшее уважение, посоветовалась с ним о каком-то спорном деле. Не пожалев ни времени, ни сил, он предложил свои услуги. Их соблаговолили принять. Он сиял от счастья и гордости. Ему так хотелось нравиться, что он перевязывал голубыми ленточками докладные записки и елейным тоном обсуждал подробности тяжбы. Перелистывая бумаги перед высокочтимой настоятельницей, он скромно и как бы стыдливо слюнявил палец кончиком языка. Правда, каждая такая беседа была для него пыткой; но то были сладостные муки. Целыми часами он терпеливо слушал объяснения недалекой, недоверчивой, упрямой и учтивой монахини, которая по укоренившейся привычке тут же ловко уклонялась от всех доводов. Его очень смущала эта красивая, бледная, немного рыхлая женщина, которая всегда говорила тихим голосом, потупившись и спрятав руки в широкие рукава. Куда непринужденнее он держался с пригородными кабатчиками или с фабрикантами патентованных гигиенических поясов, — обычными своими клиентами, которые со страшной руганью швыряли на его конторку кипу судебных решений и вызовов в суд.
У настоятельницы были величественные манеры старорежимной аббатисы. Она ни разу не заподозрила, что г-н Феллер нуждается в деньгах, в этом тоже проявлялось ее аристократическое воспитание. Он постоянно ссужал общину деньгами, хотя из-за самой незначительной суммы ему приходилось идти на такие ухищрения, от которых помутился бы ум человека заурядного.
Зато с каким наслаждением он слушал по воскресеньям вечерню на хорах часовни, благоухавшей ирисом и ладаном, отыскивал глазами дочку, которая, склонив голову над молитвенником, сидела между племянницей государственного советника и кузиной черногорского князя! Он долго любовался чудесными волосами своей девочки, ее чуть угловатыми, но изящными плечиками, обтянутыми коричневым шерстяным платьем, и, чувствуя, как туманятся стекла его очков, сморкался будто в театре после трогательной сцены.
Хлопоты по делам общины ввели его в расход, — зато он приобрел выгодные связи.
«Я — в моде», — думал он, и его жилеты, белые пикейные или бархатные — в узорах, мушках, крапинках — как-то по-новому, с важностью топорщились на его груди.
Елена росла, хорошела. Ее волосы, прежде бесцветные и тусклые, как у матери, теперь отливали золотом. Она была кроткой, ленивой, привередливой, быстро увлекалась и легко приходила в умиление. В трапезной трудно было уговорить ее съесть что-нибудь, кроме салата и хлеба с солью. У нее завязалась дружба с девочкой, у которой она стала проводить праздничные дни. Подруга эта, по имени Сесиль, дочь биржевого маклера, была шестнадцатилетняя девица низенького роста, ребячливая и в то же время взрослая не по летам, кокетливая, не очень злая, но и не добрая, отнюдь не испорченная — по недостатку воображения — и очень богатая. У нее был ум тридцатилетней пустенькой женщины, среди подруг это создавало ей славу исключительной натуры. Сесиль привозила Елену в дом своего отца, в Пасси, и в комнате, обитой шелком, они грызли конфеты. Елена нежилась в этом шелковом гнезде, и что-то в ее душе угасало. Когда она выходила оттуда, все ей казалось померкшим, грубым, отталкивающим. Она впадала в уныние. Она мечтала жить в голубой комнате, лежать на шезлонге и читать романы. У нее начались боли в желудке, которые в конце концов ее надломили. Однажды ночью в монастыре поднялся страшный переполох. Кто-то крикнул: «Пожар!» Все пансионерки вскочили с кроватей и — кто в нижней юбке, кто, накинув одеяло, — гурьбой скатились по лестницам. Позади всех бежали самые младшие и с воплями простирали руки, путаясь ножонками в длинных ночных рубашках. Оказалось, что никакого пожара нет. Сестра Женевьева отчитала «сумасшедших девчонок», а Елену похвалила за то, что она осталась в постели. Действительно, Елена даже не шелохнулась из какой-то вялости, из страха перед трудностями жизни. Она предоставляла все ходу событий, была безразлична ко всему окружающему, мечтала о драгоценностях, туалетах, собственном выезде, об увеселительных прогулках на яхте и заливалась слезами при одной мысли об отце.
Выйдя из пансиона, Елена умела кланяться в гостиной и играть на фортепиано один-единственный вальс. К ее приезду отцовский дом был заново отделан. Она стала его хозяйкой. У нее была теперь голубая комната, — ее мечта осуществилась. Отец был добр, а щедростью своей напоминал какого-нибудь старика-покровителя. Он водил ее по театрам, после спектакля угощал ужином. Он думал, что поступает хорошо. Елена поняла, что отец, такой добрый, такой покладистый, — совсем не тот джентльмен, которого она видела в монастырской приемной, и это было для нее жестоким разочарованием. Ее коробили его манеры ярмарочного фокусника, трактирные любезности. В монастыре ордена Страстей господних она научилась держаться как подобает в свете; у нее появились аристократические вкусы и стремление во всем сохранять благопристойность.
Грубоватые, несдержанные комплименты, которые ей расточали приятели отца, приводили ее в негодование. Никто и не думал делать ей предложение. Она стала прихварывать, опять начались боли в желудке. Мужчины, которых она встречала у отца, наводили на нее скуку. Все они были похожи друг на друга. Все эти оголтелые дельцы вечно куда-то спешили, суетились, в лихорадочном нетерпении грызли ногти и не жалели ни своих лошадей, ни своих ног, ни жизни. Но вот, наконец, появился человек, который затронул ее сердце.
То был молодой военный врач Рене Лонгмар. Он пришел как-то к Феллеру де Сизаку по поручению своего отца, старого дорожного смотрителя в Арденнах, потом привык к дому на Новой Полевой улице и стал там частым гостем.
Лонгмара нельзя было назвать красивым, зато он был статен и румян; говорил он резко и туманно, но Елене нравилось его общество, она слушала его с удовольствием. Он высказывал такие мысли о религии и морали, что волосы вставали дыбом, но все это занимало ее, хотя и не очень было понятно.
— Человек происходит от обезьяны, — говорил он. Елена возмущалась, и тогда он полушутя, полусерьезно развивал это положение.
Лонгмар представил кое-кого из своих приятелей — так в доме милейшего г-на Феллера создался кружок молодых ученых, на которых, впрочем, хозяин не обращал никакого внимания.
Молодой военный врач высказывал мысли наподобие следующих:
Добродетель такой же продукт, как фосфор и купорос.
Героизм и святость зависят от прилива крови к мозгу.
Только общий паралич создает великих людей.
Боги — имена прилагательные.
Вещественный мир вечно существовал и будет существовать вечно.
— Фу, какой вздор, — говорила Елена.
Но она наслаждалась звуками молодого мужественного голоса, восхищалась, будто какой-то таинственной силой, непосредственностью этого вольнодумца, который по вечерам, потягивая после чая киршвассер, преподносил в дар ей, молоденькой девушке, свои познания, рассказывая вперемешку об удивительных, чудесных и страшных явлениях природы, словно было это данью дикаря, повергающего свои дары к стопам изумленной и польщенной королевы. А тем временем из дома доносились угрюмые голоса, — там толковали о неоплаченных векселях, о решениях коммерческого суда и об оценке строительных работ.
Но вот однажды появилась тень, молчаливо витавшая среди разношерстных гостей г-на Феллера — большая, прямая рыжая тень, и смешная, и благородная. То была неприкаянная душа Хэвиленда. Елена не смешивала его с другими; она находила, что в нем есть изысканность, душевная тонкость, и знала, что он влюблен в нее, хотя он не перемолвился с ней ни словом.