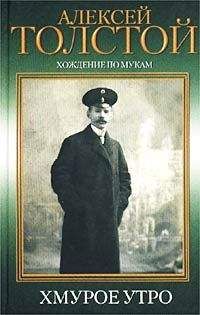— Вот почему ты с нас денег не взял, расстрига! — сказала Варвара. — А мы-то, глупые, ему поверили… Все село споил… Все у нас выведал… Всех дураков смутил, смутьян… Продал нас коммунистам… Да что вы на него смотрите, сатану, бейте его до смерти…
— Нельзя меня бить, — ответил Кузьма Кузьмич, отступая, — жалеть будете, бабы… Не трогайте меня!
— А ты нас пожалел?
Сбивая с голов своих платки, разъяряясь, женщины закричали все враз, обвиняя расстригу в каторжной разверстке, и в побоище у сельсовета, и в том, что теперь хорошему хозяину места нет на селе, и в том, сколько гусей и поросят было сожрано за эти дни, — во всем оказался он виноват. Женщины прижали его к плетню. Напрасно Кузьма Кузьмич силился снова очаровать их, насильно улыбаясь и бормоча: «Ну посердились, ну и ладно… Давайте тихо поговорим…» Варвара Власова первая вцепилась ему в волосы с боков ушей, по согнутой спине его замолотили кулаки. Он сообразил, что умнее всего лечь и закрыться руками. Ребра у него так и трещали. «Ох, только бы твердым чем-нибудь не наладили…» И он услышал дикий голос: «Колом его, перевертня!» Попробовал вскинуться, но лишь потемнело в глазах. И вдруг его отпустили. Тогда он услышал свое кряхтенье и с усилием перестал кряхтеть. Его подняли и прислонили к плетню. Кузьма Кузьмич разлепил забитые снегом и мякиной глаза и увидел Анну, из-за юбки ее — восторженное личико веснушчатой девчонки; увидел Латугина, Задуйвитра, Байкова.
— Жив? — спросил Латугин. — Ему стакан самогона сейчас же принесите кто-нибудь. Ну, Кузьма, натворил ты тут делов… На собрании постановлено благодарить тебя за антирелигиозную агитацию.
— Ты не можешь представить, Даша, до чего я был серым и занудливым человеком все это время, то есть с самого Петрограда, когда мы расстались… Был, понимаешь, был… Есть в нас какая-то подсознательная жизнь. Как недуг, — томит, и тлеешь на медленном огне… Объясняется, конечно, просто… Ты меня разлюбила, и я…
Даша быстро обернула к нему голову, — серые, влажные, всегда страшные глаза ее сказали, что он ошибается, — она его не разлюбила. От этого взгляда Иван Ильич на минуту онемел, рот его расползся в улыбку, не слишком умную, во всяком случае — счастливую. Даша продолжала укладывать в маленькую корзинку то, что сегодня утром Иван Ильич, обегав десяток учреждений, получил в виде вещевых пайков.
Здесь были вещи нужные и полезные: чулки; несколько кусочков материи, из которых можно было сшить платье; очень красивое батистовое белье, к сожалению, на подростка, но Даша была так хрупка и тонка, что могла сойти за подростка; были даже башмаки, — этим приобретением Иван Ильич гордился не меньше, чем если бы захватил неприятельскую батарею. Были и вещи, о которых нужно было думать: пригодятся ли они в предстоящей походной жизни? Ивану Ильичу их всучили вместо простынь на одном складе, — фарфоровую кошечку и собачку, кожаные папильотки, дюжину открыток с видами Крыма и чрезвычайно добротного матерьяла корсет с китовым усом, такой большой, что Даша могла им обернуться два раза…
— Дашенька, я говорю о нашем прощанье на вокзале… Ты мне сказала тогда что-то вроде: «Прощай навсегда…» Может быть, просто послышалось, я был тоже очень подавлен… Ты была зелененькая, бледненькая, далекая, разлюбившая…
— Какая гадость, — сказала Даша, не оборачиваясь. Она завертывала кошечку в толстый чулок, чтобы не побилась в дороге. Даша всегда была рассеянна к вещам, но эти две фарфоровые безделушки, хорошенькая кошечка и спящая собачка с большими ушами, почему-то ей очень нравились: будто они сами пришли к ней, чтобы устроить для Даши в этой большой, страшной, разоренной жизни, над которой неслись грозовые тучи идей и страстей, — маленький мирок невинных улыбок…
— Во всяком случае, с этим образом твоим я уехал из Петрограда… Унес его, с ним жил… Ты была со мной, как мое сердце со мной. Я так и решил: проживу одиноко, холостяком…
Он старался двигаться по комнате так, чтобы Даша была в центре его вращения. Косынку она сняла, вьющиеся пепельные волосы ее были перехвачены на затылке красной атласной ленточкой (выдали на складе артиллерийского управления). Даша то нагибалась над корзинкой, поставленной на табурет, то, опустив руки на бока, обдумывала что-то. На ней был, очаровательнее всякого какого-нибудь расфуфыренного платья, белый сестрин халат, и она его еще перетянула в талии (тоже, как и ленточка, было это не без умысла)…
— Как странно, Дашенька, опасность, смерть раньше казались как-то безразличны — убьют так убьют… В военном деле это совсем не значит, что ты храбрец, а просто — меланхолик… А теперь мне задним числом иной раз страшно… Хочу жить тысячу лет, чтобы вот так тебя трогать, смотреть на тебя…
— Хороша я буду через тысячу лет… Слушай, Иван, что же все-таки мне с ним делать? — Она опять развернула корсет и приложила его к себе. — Здесь три женщины могут поместиться. Может быть, не брать его?
— А вдруг пополнеешь, пригодится.
— Не ношу я никогда корсетов, ты с ума сошел. Знаешь что, — если вытащить из него усы и распороть, — может выйти хорошенький жилет.
Иван Ильич воспользовался тем, что обе руки ее были заняты, подошел со спины и нежно привлек Дашу.
— Так — правда? Скажи еще раз…
— Конечно — правда… Ты единственный человек на земле, без тебя я — ничто… Я же пошла тебя искать… Иван, ты все-таки соображай, — она высвободила плечи и слегка отстранилась, — нужно соразмеряться с силой, ты когда-нибудь просто меня сломаешь… Слушай, чего мы забыли? Хотя теперь уж поздно…
— Моментально слетаю…
— Хорошо бы достать губку…
— Есть губка…
Иван Ильич кинулся к шинели и вытащил из кармана губку и еще несколько принудительных предметов.
— А вот это, Даша, мне никто не мог объяснить — для чего это, но я все-таки взял.
— Иван, это роскошная вещь, это — резиновая штучка для массажа лица, какой ты милый, это мне страшно нужно…
Уложив корзинку, Даша подошла к Ивану Ильичу, сидевшему на краю койки и готовому каждую минуту сорваться, подняла его лицо, внимательно взглянула в глаза ему:
— Я дала себе зарок. В моей новой жизни — не ждать ничего, я не Сольвейг, не хочу больше глядеть в морские туманы. Только любить и делать… Такой ты меня и бери… Плоха ли, хороша ли, но я тебе верная жена. Начнем с тобой все с начала…
Как всегда, не постучав, ворвался доктор со свежей газетой и громогласно начал сообщать военные новости:
— Этот самый адмирал Колчак, который разогнал в Омске Директорию и устроил рабочим кровавую баню, провозглашен не более, не менее, как верховным правителем всея России!.. И французы и англичане его признали… Как вам это понравится? У него шестисоттысячная армия, — Дальний Восток он, изволите ли видеть, любезно уступает японцам! Слушайте дальше: соединенный английский и французский военный флот появился на рейдах Севастополя и Новороссийска… Союзнички! Кому мы, черт их возьми, помогли выиграть войну своими боками! — Доктор страшно выпятил губы. — Интервенция, и самая при этом неприкрытая! Дарья Дмитриевна, не смотрите на меня такими страшными глазами… Берите-ка вашего благоверного, идемте ко мне есть борщ… Помните, у нас один лежал со штыковыми ранами, — прислал мне мешок капусты, гуся и поросенка… Да, Иван Ильич, жаль, жаль, жаль: эдакую сестру у меня из-под носа вытащили… Между прочим, сегодня мы с вами выпьем водки, черт бы побрал всех интервентов…
Немного понадобилось Вадиму Петровичу, чтобы кончить с колебаниями, — это немногое был отыскавшийся след Кати. Так на песке у прибоя отпечаток босой женской ноги заставит иного человека написать в воображении целую повесть о той — прекрасной, — кто здесь прошла под шум волн большого моря. Ревнивая и мучительная страсть ворвалась к нему, расправилась с его безнадежными мыслями, с его безвольным унынием, и все стало казаться ему просто и очевидно.
В ту же ночь (после разговора с ландштурмистом) он уехал из Екатеринослава. Чемодан бросил в гостинице, лишь взял смену белья и вещевой мешок. И уже в пути снял офицерские погоны, кокарду, спорол с левого рукава нашивки и выбросил в окошко, — вместе с этим мусором полетело все, что до ночи в «Би-Ба-Бо» казалось ему необходимым для самоуважения. Раздвинув ноги, засунув ладони за ременный пояс, он сидел на койке в почти пустом, темном вагоне, — дикая радость наполняла его. Это была свобода! Поезд мчал его к Кате. Что бы там с ней ни происходило, — он продерется к ней, хоть все тело изорвать в клочья.
В Екатеринославе начальник станции предупреждал, что на половине дороги до Ростова опять сильно шалят бандиты, и это будет последний поезд, отправляемый на восток, и неизвестно даже — пойдет ли он низом, через Гуляй-Поле, или верхом, через Юзовку. Там же, на вокзале, старший кондуктор рассказывал обступившим его пассажирам про бандитов: носятся они по степи на телегах, на бричках, — ищут добычи; жгут помещичьи усадьбы, где еще по дурости сидят помещики; дерзко нападают на военные склады, на спиртовые заводы, кружатся около городов.