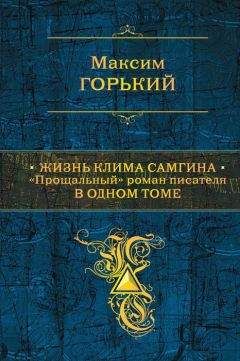– Кажется, я заболеваю...
– Я стучу уже третий раз... Что с тобой?
– Проснулся в испарине.
Она опрашивала, не позвать ли доктора; Самгин отвечал ей отрывисто, небрежно, как привык говорить с Варварой. Он чувствовал себя физически измятым борьбой против толпы своих двойников, у него тупо болела поясница и ныли мускулы ног, как будто он в самом деле долго бежал. Дуняша ушла за аспирином, а он подошел к зеркалу и долго рассматривал в нем почти незнакомое, сухое, длинное лицо с желтоватой кожей, с мутными глазами, – в них застыло нехорошее, неопределенное выражение не то растерянности, не то испуга. Пощупал пальцами седоватые волосы на висках, потрогал тени в глазницах, прочитал вырезанное алмазом на стекле двустишие:
Иннокентий Каблуков
Пожил здесь и – был таков.
«Инокентий пишется с одним н. А может быть – с двумя? Все равно – пошлость».
За окном ослепительно сверкали миллионы снежных искр, где-то близко ухала и гремела музыка военного оркестра, туда шли и ехали обыватели, бежали мальчишки, обгоняя друг друга, и все это было чуждо, ненужно, не нужна была и Дуняша. Она влетела в комнату птицей, заставила его принять аспирин, натаскала из своей комнаты закусок, вина, конфет, цветов, красиво убрала стол и, сидя против Самгина, в пестром кимоно, покачивая туго причесанной головой, передергивая плечами, говорила вполголоса очень бойко, с неожиданными и забавными интонациями:
– Сегодня – пою! Ой, Клим, страшно! Ты придешь? Ты – речи народу говорил? Это тоже страшно? Это должно быть страшнее, чем петь! Я ног под собою не слышу, выходя на публику, холод в спине, под ложечкой – тоска! Глаза, глаза, глаза, – говорила она, тыкая пальцем в воздух. – Женщины – злые, кажется, что они проклинают меня, ждут, чтоб я сорвала голос, запела петухом, – это они потому, что каждый мужчина хочет изнасиловать меня, а им – завидно!
Она тихонько, нервозно засмеялась:
– Глупости говорю?
– Глупости, – подтвердил Самгин, глядя на ее вызывающе пышный бюст и жадные губы.
– Трудно поумнеть, – вздохнула Дуняша. – Раньше, хористкой, я была умнее, честное слово! Это я от мужа поглупела. Невозможный! Ему скажешь три слова, а он тебе – триста сорок! Один раз, ночью, до того заговорил. что я его по-матерному обругала...
Покраснев, Дуняша расхохоталась так заразительно, что Самгин. скупой на смех, тоже немножко посмеялся, представив, как, должно быть, изумлен был муж ее.
– Нет, ей-богу, ты подумай, – лежит мужчина в постели с женой и упрекает ее, зачем она французской революцией не интересуется! Там была какая-то мадам, которая интересовалась, так ей за это голову отрубили, – хорошенькая карьера, а? Тогда такая парижская мода была – головы рубить, а он все их сосчитал и рассказывает, рассказывает... Мне казалось, что он меня хочет запугать этой... головорубкой, как ее?
– Гильотина, – подсказал Клим.
– И выходило у него так, как будто революция началась потому, что француженки вели себя нескромно.
Швырнув на стол салфетку, она вскочила на ноги и, склонив голову на правое плечо, спрятав руки за спиною, шагая солдатским шагом и пофыркивая носом, заговорила тягучим, печальным голосом:
– «Теперь тебе должно быть ясно, насколько Мария Антуанетта способствовала гибели монархии...»
Она была очень забавна, ее веселое озорство развлекало Самгина, распахнувшееся кимоно показывало стройные ноги в черных чулках, голубую, коротенькую рубашку, которая почти открывала груди. Все это вызвало у Самгина великодушное желание поблагодарить Дуняшу, но, когда он привлек ее к себе, она ловко выскользнула из его рук.
– Перед концертом – не могу, – твердо сказала она. – Там, пред публикой, я должна быть – как стеклышко!
– Какая чепуха, – возразил Самгин, не сердясь, но удивляясь.
– Не могу, – повторила она, разведя руками. – Видишь ли что...
Она подумала, глядя в потолок.
– Надутые женщины, наглые мужчины, это – правда. но это – первые ряды. Им, может быть, даже обидно, что они должны слушать какую-то фитюльку, чорт ее возьми.
Но всегда есть другие люди, и пред ними уже надобно петь хорошо, честно. Понимаешь?
– Не совсем, – сказал Самгин. – Что значит: честно петь?
Она снова задумалась, поглаживая щеки ладонями, потом быстро рассказала:
– Отец мой несчастливо в карты играл и когда, бывало, проиграется, приказывает маме разбавлять молоко водой, – у нас было дне коровы. Мама продавала молоко, она была честная, ее все любили, верили ей. Если б ты знал, как она мучилась, плакала, когда ей приходилось молоко разбавлять. Ну, вот, и мне тоже стыдно, когда я плохо пою, – понял?
Самгин одобрительно похлопал ее по спине и даже сказал:
– Это очень по-детски вышло у тебя...
– Да, – глупенькая, глупенькая, – торопливо согласилась она, целуя его в лоб. – Увидимся после концерта, да?
Она немножко развлекла его, но, как только скрылась за дверью, Самгин забыл о ней, прислушиваясь к себе и ощущая нарастание неясной тревоги.
«Устал. Заболеваю».
Взяв газету, он прилег на диван. Передовая статья газеты «Наше слово» крупным, но сбитым шрифтом, со множеством знаков вопроса и восклицания, сердито кричала о людях, у которых «нет чувства ответственности пред страной, пред историей».
«Мы – искренние демократы, это доказано нашей долголетней, неутомимой борьбой против абсолютизма, доказано культурной работой нашей. Мы – против замаскированной проповеди анархии, против безумия «прыжков из царства необходимости в царство свободы», мы – за культурную эволюцию! И как можно, не впадая в непримиримое противоречие, отрицать свободу воли и в то же время учить темных людей – прыгайте!»
«В провинции думают всегда более упрощенно; это нередко может быть смешно для нас, но для провинциалов нужно писать именно так, – отметил Самгин, затем спросил: – Для кого – для нас?» – и заглушил этот вопрос шелестом бумаги. На обороте страницы был напечатан некролог человека, носившего странную фамилию: Уповаев. О нем было сказано: «Человек глубоко культурный, Иван Каллистратович обладал объективизмом истинного гуманиста, тем редким чувством проникновения в суть противоречий жизни, которое давало ему силу примирять противоречия, казалось бы – непримиримые».
В отделе «Театр» некто Идрон писал:
«Сегодня мы еще раз услышим идеальное исполнение народных песен Е. В. Стрешневой. Снова она будет щедро бросать в зал купеческого клуба радужные цветы звуков, снова взволнует нас лирическими стонами и удалыми выкриками, которые чутко подслушала у неисчерпаемого источника подлинно народного творчества».
Самгин швырнул газету на пол, закрыл глаза, и тотчас перед ним возникла картина ночного кошмара, закружился хоровод его двойников, но теперь это. были уже не тени, а люди, одетые так же, как он, – кружились они медленно и не задевая его; было очень неприятно видеть, что они – без лиц, на месте лица у каждого было что-то, похожее на ладонь, – они казались троерукими. Этот полусон испугал его, – открыв глаза, он встал, оглянулся:
«Воображение у меня разыгрывается болезненно».
Решив освежиться, он вышел на улицу; издали, навстречу ему, двигалась похоронная процессия.
«Вероятно, Уповаева хоронят», – сообразил он, свернул в переулок и пошел куда-то вниз, где переулок замыкала горбатая зеленая крыша церкви с тремя главами над нею. К ней опускались два ряда приземистых, пузатых домиков, накрытых толстыми шапками снега. Самгин нашел, что они имеют некоторое сходство с людьми в шубах, а окна и двери домов похожи на карманы. Толстый слой серой, холодной скуки висел над городом. Издали доплывало унылое пение церковного хора.
«Как все это знакомо, однообразно. И – надолго. Прочно вросло в землю».
Так же равнодушно он подумал о том, что, если б он решил занять себя литературным трудом, он писал бы о тихом торжестве злой скуки жизни не хуже Чехова и, конечно, более остро, чем Леонид Андреев.
За церковью, в углу небольшой площади, над крыльцом одноэтажного дома, изогнулась желто-зеленая вывеска: «Ресторан Пекин». Он зашел в маленькую, теплую комнату, сел у двери, в угол, под огромным старым фикусом; зеркало показывало ему семерых людей, – они сидели за двумя столами у буфета, и до него донеслись слова:
– Ты бы, Иван Васильев, по – тово, похрабрее разоблачал штукарей этих, а то они, тово, обскачут нас на выборах-то!
Голос был жирный, ворчливый; одновременно с ним звучал голосок тонкий и сердитый:
– Какой он, к чорту, эсер, если смолоду, всю жизнь лимонами торгует?
– Они тут все пролетариями переодеваются, – сказал третий.
Рассматривая в зеркале тусклые отражения этих людей, Самгин увидел среди них ушастую голову Ивана Дронова. Он хотел встать и уйти, но слуга принес кофе;