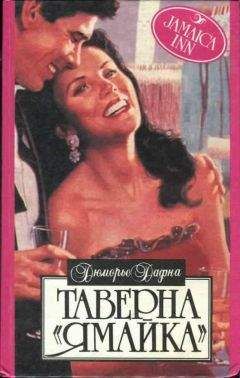целое с verrerie, с этим домом; ты сможешь снова, как когда-то, придумывать новые образцы и создавать изящные, хрупкие вещицы наподобие того замка, который Мари-Ноэль нашла в колодце. И тогда, вместо того чтобы посылать флаконы для духов и пузырьки для лекарств фирме вроде Корвале, которой куда выгодней покупать их там, где есть поточное производство, ты сможешь выбирать собственный рынок из того, что найдет для тебя Поль, рынок, требующий мастерства, высочайшего качества, художественности исполнения — всего того, что было некогда в Сен-Жиле и что ты могла бы возродить.
Я остановился, вся моя энергия вдруг иссякла, мысли исчезли. Я выдохся. И так же точно, как через руку матери, всю ночь лежавшую в моей, мне передавались терзавшие ее сожаления о прежней жизни, так из устремленных на меня глаз Бланш, которые теряли горечь, становились задумчивыми, внимательными, даже добрыми, освещая ее лицо и говоря о ее исцелении, переходила ко мне боль одиночества, становясь моим одиночеством, моей болью, погружая меня во мрак. Теперь эту ношу, так же терпеливо, придется нести мне.
Я сказал Бланш:
— Я устал. Я не спал эту ночь.
— Я тоже, — сказала она. — И в первый раз я не смогла молиться.
— Значит, мы квиты. Мы оба спустились на дно. Но девочка была там первой и не испугалась. Когда ты переедешь в verrerie, скажи рабочим, чтобы они вычистили колодец и нашли родник. Там должна быть вода.
Я оставил ее и, выйдя из комнаты, прошел коридором к гардеробной. Кинулся на складную кровать, закрыл глаза и проспал без сновидений до начала одиннадцатого. Проснулся я оттого, что Гастон тряс меня за плечо, напоминая, что в одиннадцать часов я должен быть в Вилларе у комиссара полиции.
Я встал, побрился, принял ванну, снова надел черный костюм, и мы вместе отправились в город. Жена Гастона и Берта попросили взять их с собой — они хотят зайти в больничную часовню. Пока я разговаривал с commissaire — ему нужно было, чтобы я прочитал и засвидетельствовал протокол, сделанный им накануне, — женщины оставались в машине. Когда я вышел из комиссариата, один из полицейских сказал мне, что у машины меня кто-то ждет. Это был Винсент — помощник Белы в «L’antiquaire du Pont»; в руке он держал небольшой пакетик.
— Простите, господин граф, но мадам никак не могла с вами связаться. Этот пакет прислали из Парижа только вчера. Она уже знает, что он прибыл слишком поздно, и очень сожалеет об этом. Мадам просила передать его вам для малышки.
Я взял у него пакетик.
— Что это? — спросил я.
— Были разбиты какие-то фарфоровые фигурки. Ваша дочка поинтересовалась, нельзя ли их склеить. Это было невозможно, как, полагаю, мадам объяснила вам. Вместо этого она послала в Париж за такими же статуэтками. Мадам очень просит вас не говорить девочке, что фигурки другие. Если она не узнает об этом и подумает, что их склеили из осколков, ей будет приятней хранить их на память о матери.
Я поблагодарил его, затем нерешительно спросил:
— Мадам больше ничего не просила передать?
— Нет, господин граф. Только это и ее глубокое сочувствие.
Я сел в машину. Остальные — Гастон, его жена и Берта — все это время терпеливо ждали меня, и теперь наконец мы поехали в больничную часовню, откуда на следующий день Франсуазу увезут в замок. Даже за те немногие часы, что прошли со вчерашнего вечера, она еще сильней отдалилась от нас, стала недоступной, частицей времени. Жена Гастона, сразу начавшая плакать, сказала мне:
— Смерть прекрасна. Мадам Жан похожа на небесного ангела.
Я был не согласен с ней. Смерть — палач, отсекающий головку цветка до того, как он распустится. На небесах — красота и великолепие, но не в сырой земле.
Когда мы вернулись в Сен-Жиль, Мари-Ноэль уже ждала нас на террасе. Она подбежала и повисла у меня на шее, затем, подождав, пока машина со всеми остальными отъедет за дом в гараж, обернулась ко мне.
— Бабушка сегодня спустилась вниз рано, еще одиннадцати не было. Она в гостиной, готовит ее для maman. Maman будет лежать там завтра целый день, чтобы все могли прийти и отдать ей последний долг.
Девочка была возбуждена, ее все поражало. Я заметил, что к ее темному платью приколот медальон Франсуазы.
— Бабушке помогает мадам Ив, — продолжала она. — Бабушка послала за ней. Она сказала, мадам Ив — единственная, кто помнит дедушкины похороны. Сейчас они спорят о том, где должен стоять стол.
Мари-Ноэль взяла меня за руку и повела в гостиную. Я услышал громкие голоса — шел спор. Переступив порог, я увидел, что ставни все еще закрыты и горит свет, а диван и кресла повернуты к центру комнаты. Между окнами и дверью был поставлен длинный стол, покрытый кружевной скатертью. У стола сидела в кресле графиня, перед ней стояла Жюли с куском белой ткани в руках.
— Уверяю вас, госпожа графиня, стол находился ближе к центру и покрыт был не кружевом, а камчатным полотном, вот этим самым, что у меня в руках; я нашла его в бельевой засунутым как попало в глубину ящика; судя по его виду, он лежал там с тех самых пор, как мы брали его для господина графа.
— Глупости, — отвечала графиня. — Мы стелили кружево. Оно досталось мне от матери. Эта скатерть принадлежала их семье больше ста лет.
— Вполне возможно, госпожа графиня, — сказала Жюли. — С этим я не спорю. Я прекрасно помню эту скатерть. Вы постелили ее на стол, когда крестили детей, — прекрасный фон для пирога. Но крестины — это одно, а прощание с усопшим — совсем другое. Белая камчатная скатерть куда больше подходит, чтобы отдать мадам Жан дань нашей скорби, как подошла для этой цели на похоронах господина графа.
— Кружево падает более красивыми складками, — сказала графиня. — Все подумают, что это престольный покров. Оно обманет самого господина кюре.
— Господина кюре — возможно, — сказала Жюли. — Он близорук. А вот епископа не обманет. У него глаза как у ястреба.
— А мне все равно, — сказала графиня, — я предпочитаю кружево. Пусть оно более броское, чем камчатная скатерть, что с того? Я хочу, чтобы у моей невестки было все самое лучшее.
— В таком случае, — отозвалась Жюли, — говорить больше не о чем. Кружево так кружево. А камчатная скатерть, видно, отправится в бельевую, где ее позабудут еще на двадцать лет. Кто теперь хоть о чем-нибудь заботится здесь, в замке? Вот о чем я спрашиваю себя. Разве так было в старые