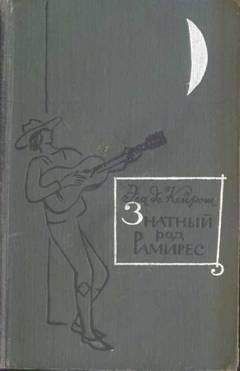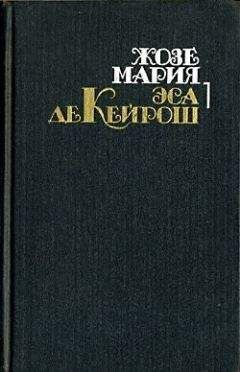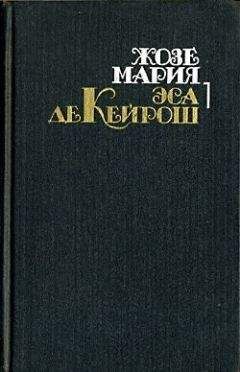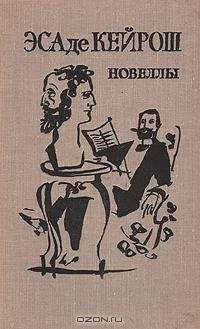— Пронесло! — выдохнул с облегчением Тито.
И действительно, посреди Королевской площади, возле решетки, ограждающей старинные солнечные часы, сестры остановились и подняли свои черные мордочки к церкви св. Матфея, как бы что-то там вынюхивая или выслеживая. Колокола зазвонили — в церкви совершался обряд крещения.
— Проклятье! Они идут сюда!
Видимо, приняв окончательное решение, старухи двинулись прямиком к. подъезду «Углового дома». Поднялось всеобщее смятение. Толстые ноги Барроло, обратившегося в паническое бегство, так сотрясали пол, что с поставцов чуть не попадали пузатые индийские вазы. Гонсало срывающимся голосом призывал укрыться в яблоневом саду, растерявшийся Гоувейя в отчаянии искал по всей комнате свой цилиндр. Только Тито, который открыто враждовал с обеими старухами, за что получил от них прозвище «Полифем»*, спокойно удалялся из залы, прикрывая своим телом падре Соейро. Вспугнутое общество уже толпилось у двери, когда в гостиную вошла Грасинья в свежем шелковом платье земляничного цвета; она удивленно, с улыбкой оглядела бегущих в панике гостей.
— Что случилось? Что с вами?
Единодушный сдавленный вопль уведомил молодую хозяйку об опасности,
— Старухи Лоузада!
— Ах!
Тито и Жоан Гоувейя торопливо пожали ее похолодевшую руку. Колокольчик у подъезда грозно звякнул! Таща на буксире кругленького падре Соейро, мужчины беспорядочной толпой поспешили прочь, в библиотеку; запершись изнутри на засов, Барроло крикнул жене:
— Убери крюшон!
Бедная Грасинья! Ей некогда было даже позвонить слуге!
Собрав все силы, она схватила тяжелый поднос и вынесла в коридор. Если бы старухи его заметили, то сплетня о диких попойках в «Угловом доме» вознеслась бы над городом, как колокольня св. Матфея. Затем, едва переводя дух, она бросилась к зеркалу, проверить, в порядке ли прическа, и, наконец выпрямившись, точно боец на ристалище, со спокойным и улыбчивым бесстрашием древних Рамиресов, остановилась посреди гостиной и стала ждать натиска ужасных сестер.
* * *
В следующее воскресенье, после завтрака, Гонсало проводил сестру к тете Арминде Вьегас: накануне вечером, принимая (как обычно, по субботам) ножную ванну, старушка ошпарилась и от испуга слегла, а затем потребовала консилиума в составе всех пяти хирургов Оливейры. Выйдя от нее, Гонсало выкурил сигару под акациями на Посудной площади, размышляя о своей заброшенной повести, и особенно о главе второй. Глава эта и пугала его и притягивала: в ней предстояло описать роковую встречу Лоуренсо Рамиреса с Лопо Байоном, «Бастардом», в долине Канта-Педры. Фидалго шел уже по дороге к «Угловому дому» (Барроло упросил его съездить вместе с ним верхом в Пиньял-де-Эстевинья, чтобы насладиться прохладой серенького воскресного дня), как вдруг на Сторожевой улице увидел нотариуса Гедеса, выходившего из кондитерской Матильды с огромным пакетом пирожных. Легко шагая, фидалго перешел к нему на другую сторону улицы. Пузатенький, неповоротливый Гедес ждал его на краю тротуара, учтиво сняв шляпу и обнажив лысину, посреди которой красовался седоватый хохолок, снискавший ему кличку «Удод»; от нетерпения он привставал на цыпочки, поблескивая лаковыми носиками щегольских ботинок.
— Прошу вас, дорогой мой Гедес, не снимайте шляпы. Как поживаете? А вы молодцом! Да, говорил с вами вчера падре Соейро? Оказывается, Перейра из Риозы приедет в город только в среду.
Да, да, падре Соейро заходил в контору и говорил об этом! А он, со своей стороны, спешит поздравить фидалго с новым арендатором…
— Перейра — большой дока по своей части! Я его знаю больше двадцати лет. Достаточно взглянуть на поместье Монте-Агры. Я же помню, что там было: заросший пустырь. А теперь! Какая роскошь! Одни виноградники чего стоят! Да, это мастер своего дела… А ваша милость еще долго пробудете в Оливейре?
— Дня два или три. Я плохо переношу здешнюю жару. Слава богу, хоть сегодня немножко попрохладней. А что у вас тут нового? Как обстоит с политикой? Вы все такой же убежденный, последовательный возрожденец?
Нотариус вдруг прижал пирожные к своему черному шелковому жилету, вскинул коротенькую руку; от негодования его бритые щеки налились кровью, волосатые уши покраснели, побагровел затылок, запылала вся голова, вплоть до полей белой шляпы, повязанной траурным крепом.
— Да как же тут не будешь возрожденцем, сеньор Гонсало Мендес Рамирес? Да кем же еще прикажете тут быть?! После недавнего-то скандала!
Веселые глаза фидалго стали серьезными и широко раскрылись.
— Какого скандала?
Нотариус попятился. Как, фидалго не слыхал о последней выходке нашего губернатора, сеньора Андре Кавалейро?
— Друг мой, а что случилось?
Гедес так и вытянулся вверх, привстал на носки, набрал полную грудь воздуха, весь надулся и выкрикнул:
— Перевод Нороньи!.. Перевод несчастного Нороньи!
Тут какая-то тучная дама с густыми темными усиками, тащившая за руку зареванного мальчишку, подошла к ним, скрипя шелковым платьем, остановилась и грозно взглянула на Гедеса: нотариус загораживал своим брюшком, пакетом и коротенькой рукой вход в кондитерскую Матильды. Торопясь скорей пропустить ее, фидалго приподнял щеколду застекленной двери, потом взволнованно проговорил:
— Друг мой Гедес, вы, конечно, идете домой. Мне с вами по дороге. Пойдемте вместе и потолкуем. Так вы сказали… Но этот Норонья… Какой Норонья?
— Рикардо Норонья. Вы его, безусловно, знаете, сеньор Гонсало. Счетовод из отдела общественных работ.
— Ах да! Да! Так его перевели в другой отдел? Перевели противозаконно?
Они шли по тихой, пустынной Сверлильной улице. Гневный голос Гедеса неистово загремел, эхом отдаваясь от гулкой каменной мостовой:
— Противозаконно?! Бесчестно, сеньор Гонсало Мендес Рамирес, позорно! И куда? В Алмодувар, в глушь, на самую окраину Алентежо!.. Ни доходов, ни развлечений, ни порядочного общества!
Он умолк и, прижимая к сердцу пирожные, смотрел на фидалго выпученными, сверкающими глазами. И с кем же так поступили? С Нороньей! Честным, исполнительным служакой! С человеком, совершенно чуждым политике; да он знать не знал ни историков, ни возрожденцев! Жил исключительно для семьи, для своих юных сестер, трех девушек, оставшихся на его попечении… Бедного Норонью все в городе любили за его достоинства и таланты. Во-первых, огромное музыкальное дарование… Как? Сеньор Гонсало Рамирес не знал? Норонья сочинял премилые пьески для рояля! Он незаменимый участник всех праздников, всех именин, ему Оливейра обязана своими любительскими спектаклями.
— А какой режиссер! Да что, ваша милость! Таких в столице поискать! Второго Нороньи нет и не было! И вдруг — бац! — в Алмодовар, в преисподнюю, с сестрами, со всеми пожитками… Рояль! Вообразите, сеньор Гонсало, во что станет перевозка одного рояля!
Гонсало блаженствовал.
— Отличный скандал. Какое счастье, что я вас встретил, дорогой мой Гедес!.. А не знаете, что послужило поводом?
Они шли по узкому переулку. Нотариус с горечью пожал плечами. Повод? Для отвода глаз это злоупотребление, как и всегда в подобных случаях, прикрывают ссылкой на пользу дела. Но все друзья Нороньи знают настоящую причину… Тайну, глубоко личную, чудовищную тайну!
— Что же?
Гедес опасливо огляделся. Никого. Только какая-то старушонка ковыляла с кувшином через дорогу. Нотариус глухо зашептал, дыша прямо в разгоревшееся лицо фидалго: все дело в том, что этот низкий человек, Андре Кавалейро, увлекся старшей из барышень Норонья, доной Аделиной, — не девушка, а картинка! Рослая, смуглая красавица! И вот, получив отпор (барышня эта — девица рассудительная, этакая умница, сразу его раскусила), господин губернатор с досады начинает мстить. Кому же? Счетоводу. Ссылает его в Алмодовар, с барышнями, со всем домашним скарбом… Счетовод расплатился по счету!
— Отличнейший скандал! — пробормотал Гонсало, сияя и едва удерживаясь от смеха.
— И подумайте, ваша милость, — восклицал Гедес, придерживая дрожащей рукой шляпу. — Подумайте: бедный Норонья, который по своей доброте и невинности всегда рад сделать приятное начальнику, всего неделю тому назад посвятил Кавалейро прелестный вальс собственного сочинения!.. Прелестнейший вальс под названием «Мотылек»!
Гонсало не выдержал и стал ликующе потирать руки:
— Прелесть что за скандал!.. Но неужели никто не посмел заговорить? А что же ваша оппозиционная газета «Фанфары Оливейры»? Неужели ни одной статьи, ни одного даже намека?
Гедес сокрушенно повесил голову. Сеньор Гонсало Рамирес сам знает этих прохвостов из «Фанфар»… Одно краснобайство. Пышные слова, литературные красоты… Но чтобы сказать прямо в лицо горькую, неприкрашенную правду — где им! Кишка тонка! И к тому же Бискаиньо, их главный редактор, втихомолку перебежал на сторону историков. Как? Сеньор Гонсало Рамирес и этого не знал? Эта флюгарка Бискаиньо держит нос по ветру. Видимо, Кавалейро посулил ему хороший куш… И, кроме того, легко ли доказать, что тут злоупотребление? Дело щекотливое, семейное… Нельзя же трепать в газетах имя доны Аделины, скромнейшей барышни, и с такими красивыми глазками! Да… Нет больше Мануэле Жустино и его «Оливейранской зари»! Вот был человек! Он-то не постеснялся бы напечатать черным по белому на первой полосе, под аршинным заголовком: «Внимание! Представитель власти в округе пытается развратить сестер Норонья!»