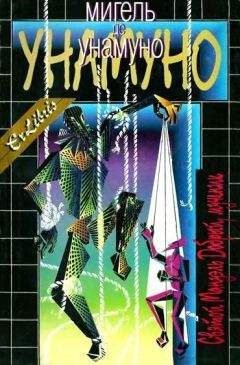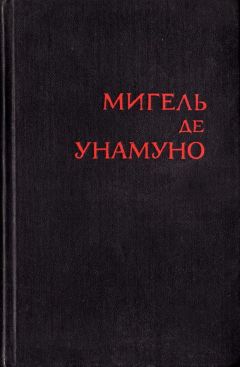– Бежать, Лидувина, – скрыться!
– Да, Рикардо, я понимаю тебя: каждый из нас уйдет из родного дома, и мы отправимся неизвестно куда, вдвоем, чтобы… чтобы дать толчок нашей любви.
– И ты?…
– Я, Рикардо, готова – по первому твоему слову.
Наступило молчание. Солнце укладывалось на свое багряное ложе, кипарис, совсем почерневший, высился неким предостережением; колокола собора только что отзвонили Благовест. Лидувина перекрестилась, как всегда в этот час, и губы ее затрепетали. Она схватилась за прутья решетки и крепко сжала их – касаясь железа, грудь ее тяжело вздымалась. Рикардо, опустив глаза, шептал неслышно: «Иди по всему миру и проповедуй Благую Весть».
Было мучительно трудно вновь начать разговор. Рикардо, казалось, забыл, на чем остановился, и Лидувина тоже не помнила. Некий рок тяготел над ними. Расстались они печально.
Проходили дни, а Рикардо ни словом не обмолвился больше о бегстве, пока однажды вечером Лидувина, помолчав, не сказала:
– Ну ладно, Рикардо, а как насчет того?
– Насчет чего, Лидувина?
– Насчет того. Ты что, забыл?
– Объяснись как следует…
– Нет, Рикардо, это ты подумай как следует и вспомни…
– Нена, я не понимаю, о чем ты.
– Прекрасно понимаешь.
– Ну так о чем? Договаривай!
– Ладно. О том, чтобы нам бежать!
– А-а! Но… неужели ты приняла это всерьез?
– Значит, ты, Рикардо, шутишь нашей любовью?
– Любовь – это одно…
– О да! А малодушие, а страх перед тем, что скажут, – другое. Ну, наконец-то, милый мой!
– О, если так!..
– Если так – что?
– Когда тебе будет угодно!
– Мне? Прямо сейчас! Меня давно уже гнетет мой дом.
– Ах, так вот ты ради чего?
– Нет, ради тебя, Рикардо, только ради тебя.
И она прибавила после короткого размышления:
– Ради себя тоже… Ради нашей любви! Так больше не может продолжаться.
Они обменялись взглядом, полным глубинного понимания. И в этот же день сговорились о бегстве.
И этот сговор, эти приготовления к шагу, овеянному романтикой, шагу, по мнению молвы, греховному, оживляли вечернюю беседу, придавали, казалось, их любви новое дыхание и полет. И позволяли, кроме того, презирать других влюбленных, жалких, робких, погрязших в рутине чувства, не ведающих о таинственной, освежающей силе бегства, бегства по взаимному согласию.
Рикардо чувствовал себя побежденным, даже униженным. Эта женщина оказалась сильнее его. Сила вызывала восхищение, но – за счет нежности. Так, во всяком случае, чудилось ему.
Наконец однажды утром Лидувина сказала домашним, что хочет навестить подругу, и вышла из дому в сопровождении служанки, неся в руках маленький узелок с бельем. Через несколько шагов они поравнялись с каретой, стоявшей у обочины, и прошли мимо. Но тут Лидувина вдруг повернулась к служанке и сказала: «Подожди минутку: я забыла кое-что дома, я быстро». Она пошла назад, села в карету, и лошади пустились вскачь. Когда служанка, устав ждать, отправилась домой за своей сеньоритой, выяснилось, что та не возвращалась.
Карета на полной скорости укатила в соседнее селение, на железнодорожную станцию. По пути Рикардо и Лидувина молча держались за руки и глядели в поля.
Потом они сели в поезд, и поезд тронулся.
Железная дорога проходила берегом реки, которая, изогнувшись серпом, несла к морю свои почти всегда желтоватые воды. По обе стороны поднимались виноградники, миндальные, оливковые и сосновые рощи и время от времени – апельсиновые и лимонные сады. Изрезанные террасами склоны, меж которых прихотливо струилась река, ласточкиным хвостом расходились к горизонту. То тут, то там у плотин, возведенных на реке, виднелись крохотные, жалкие мельницы самого примитивного образца: грубый жернов, накрытый шалашом из ветвей. Большие баржи, груженные бочками, спускались вниз по реке под парусом или поднимались, подталкиваемые длинными баграми, – с ними управлялся человек, стоящий на возвышении, очень похожем на кафедру.
Рикардо и Лидувина, съежившись в углу вагона, рассеянно глядели на виллы, рассыпанные по берегам реки, окруженные зеленью, и вслушивались в беседу на почти незнакомом языке, едва улавливая смысл того или другого слова. На какой-то станции продавали апельсины, и Лидувине тут же захотелось их. Надо было освежить пересохшие губы, занять чем-нибудь руки и рот. Рикардо очистил апельсин и подал ей, Лидувина разломила апельсин пополам и протянула половину Рикардо. Потом откусила полдольки, оглянулась на попутчиков и, увидев, что те увлечены беседой, отдала своему жениху остальное.
На следующей станции они пообедали – обед получился печальным. Лидувина, обычно не пившая ничего, кроме воды, отважилась на бокал вика. И спросила вторую чашечку кофе. Рикардо тщетно пытался казаться спокойным и сдержанным. Ах, если бы они могли вернуться, уничтожить плоды своих трудов! Но где там: поезд, воплощение судьбы, мчал их вперед по рельсам. На какой бы станции они ни сошли, им все равно пришлось бы ждать следующего дня, чтобы пуститься в обратный путь.
– Слава Богу! – воскликнула Лидувина, когда поезд прибыл к назначенному месту.
Они пошли в гостиницу, спросили комнату и затворились в ее печальных стенах.
На следующее утро встали гораздо раньше, чем думали накануне. Обоих томила чудовищная, роковая тоска; глаза застилала тень невыразимого разочарования. Поцелуи были зовом, обращенным в пустоту. Обоим думалось, что они пожертвовали любовью ради иного чувства, менее чистого. Рикардо бесконечно твердил свое: «Иди и проповедуй Благую Весть», перед Лидувиной вставали то молчащая мать, то хмурое лицо сестры, а чаще всего – кипарис за монастырской оградой. Ей недоставало сумеречной печали, которая доныне окружала ее. Так, значит, это, вот это и есть любовь?
Глубокое, тупое оцепенение охватило обоих – оно-то и мешало действовать. Верившие, что, приняв романтичное, героическое решение, они окажутся вдруг на солнечной вершине, полной света и воздуха, оба очутились у подножия крутого, поросшего кустарником склона. И вел он даже не на Голгофу – отсюда брал начало путь, пропитанный горечью. Теперь, да, теперь, не кончалась, а едва начиналась усеянная репейником и колючей ежевикой тропа их страстей. Эта ночь увенчала исполненные тихой меланхолии вечера у решетки сада, явилась началом жизни. И ночь эта их томила, так томит начало подъема на гору, вершина которой теряется в облаках.
А еще они ощущали стыд, сами не зная почему. Завтрак прошел в смятении. Лидувина едва притронулась к еде. Перед тем как начать одеваться, она велела Рикардо выйти из комнаты. Умываясь, намылила лицо и терла неистово, чуть не до крови.
– Ну как, все? – крикнул Рикардо из-за двери.
– Нет, подожди еще чуточку.
Она встала на колени перед кроватью и с минуту молилась, как не молилась никогда, но без слов. Она отдала себя в руки Провидения. Потом открыла дверь своему жениху. Жениху? Как же ей следует теперь его называть?
Они вышли, взявшись под руку, и побрели по улицам наугад.
Сердце Лидувины трепетало под правой рукою Рикардо, а он нервно приглаживал стрелки усов. Молодые люди на всех смотрели с опаской, боясь увидеть кого-нибудь из знакомых. Они шли, беспрестанно вздрагивая от страха, но готовы были терпеть все, что угодно, лишь бы не возвращаться в гостиницу. Нет, только не это! Холодная комната с ветхой мебелью, с растрескавшейся штукатуркой, комната, где ночевало столько сменивших друг друга незнакомцев, сделалась им отвратительна. Единственным утешением были баюкающие, обволакивающие звуки почти чужеземного языка. Какая-нибудь местная женщина с цыганскими глазами, что шествовала мимо томной походкой, шаркая шлепанцами или же босиком, порой взглядывала на них с дремотным любопытством. А иной раз полная пузатых кувшинов повозка с рыжими волами под большим ярмом из пробкового дуба напоминала те, что скапливались у дверей собора в их городке.
Им хотелось в последний раз облегчить свое сердце – но где это сделаешь в чужом городе? Что в незнакомом месте может заменить родной дом? Когда они проходили мимо церкви, Рикардо ощутил под своей рукой, как вздымается грудь Лидувины. Они вошли. Кончиками среднего и указательного пальцев Лидувина коснулась святой воды и протянула руку Рикардо, глядя помутневшим взглядом в его мутные глаза. Остановились недалеко от двери; Рикардо сел у стены, в темноте, а Лидувина встала рядом на колени, положив локти на скамью и оперев подбородок на сложенные ладони. В храме никого не было, кроме какой-то бедной женщины, почти старухи, покрытой платком, которая на коленях проходила весь Крестный путь. Попеременно выставляя колени из-под огромного живота, что колыхался при каждом движении, она, с четками в руках, двигалась по церкви, от алтаря к алтарю. На главном пирамидою поднимались лучи Всевышнего. Тишина была под стать сумраку.