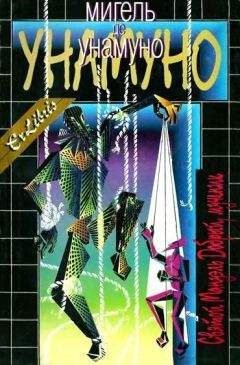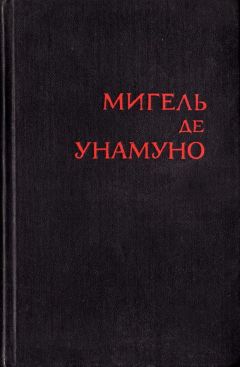Рикардо упал на колени и, один, у себя в комнате, омочил слезами Евангелие, предвестившее ему судьбу.
Образ жизни, избранный послушником братом Рикардо, в конце концов ужаснул монастырского наставника: таким он казался чрезмерным. С нездоровым рвением предавался юноша молитве, покаянию, уединенным размышлениям, а более всего – ученым занятиям. Нет, это не выглядело естественным и напоминало скорее плод отчаяния, внушенного дьяволом, чем тихую веру в милосердие Господне и во славу Сына его, Богочеловека. Можно было подумать, что Рикардо мучительно тщится внушить себе призвание, которого не чувствует, или вырвать что-либо из рук Всевышнего. «Ищите и обрящете», – сказано в Писании; но в неистовствах брата Рикардо не было и следа евангельской кротости.
Каялся он затем, чтобы искупить мирскую любовь. Говорили, что брак, в который вступают путем греха, не может оказаться обилен духовными благами. Он молился о Лидувине и о ее судьбе, которую считал неразрывно связанной со своею собственной. Без того Провидением внушенного бегства они, возможно, поженились бы и сошли тем самым с истинного пути, указанного им Господом.
Молитвы его полнились беспокойством и смятением. Он просил у Бога успокоения, просил призвания, просил также и веры.
Он читал Фому Кемпийского, Отцов Церкви, мистиков, апологетов, а более всего – «Исповедь» Блаженного Августина. Он мнил себя вторым Августином, поскольку прошел, как и Африканец, через опыт плотской страсти и земной, человеческой любви.
Его собратья, другие послушники, смотрели на него с некоторым подозрением и, конечно, с завистью, с той унылой завистью, что тайной язвой разъедает монастыри. Им казалось, что брат Рикардо хочет выделиться и в глубине души презирает их всех. Насчет последнего они не заблуждались. Лишь совершая насилие над собою, мог Рикардо выносить наивное простодушие и самодовольную неотесанность собратьев по послушанию, невежество и грубость многих из них. И он избегал лучших, самых чистосердечных и простых, находя их глупыми. Хитрые и лукавые занимали его больше. Ему больно было видеть, что большинство послушников не знали хорошенько, для чего вообще поступили в монастырь: одних еще детьми поместили туда родители, чтобы сбыть их с рук и не заботиться больше об их профессии и состоянии; другие начинали служками или церковными привратниками; третьих завлекли полные мрачной поэзии видения, присущие первому, смутному отрочеству, – и почти никто из них не знал мира, о котором говорилось как о чем-то далеком и полном тайны. Рикардо невольно улыбался, сострадая их святой простоте, когда слышал, как они рассуждают о кознях плоти, о грехе, о вожделении. Они считали инфернальным то, что он, брат Рикардо, полагал просто глупым, думая, что изучил это досконально. Они не испытали, насколько пуста мирская любовь.
Коль скоро среди послушников ходила смутная молва о том приключении, что привело брата Рикардо в монастырь, то ему все время намекали на это, а когда он, с самой высокомерной своей улыбкой, давал понять, что не следует преувеличивать мирскую власть дьявола и плоти, ему отвечали:
– Конечно, вам видней: у вас больше опыта в обращении с ними, нежели у нас…
И это льстило его тщеславию. Однако более прямые намеки на его роман с Лидувиной и на побег раздражали Рикардо. Он тогда думал, что ни высокие стены монастыря, ни простодушие братьев так и не смогли до конца изгладить ту смехотворность его положения, какую он так остро чувствовал в родном городке.
Монастырского наставника совершенно не убеждало рвение брата Рикардо. В разговоре с отцом приором он сказал однажды:
– Поверьте, отец мой, я так и не разобрался до конца в этом брате Рикардо. Он пришел к нам уже слишком сложившимся и со следами дурных влияний. Он всегда что-то скрывает – он не из тех, кто предается безоглядно. Пытается выделиться, мнит себя выше других и презирает своих сотоварищей. Ему больше докучает добродетельная простота, чем лукавый ум. Он даже признался мне на исповеди, что считает, будто глупцы хуже злодеев. Его восхищают святые, самые выдающиеся, самой строгой жизни, но не думаю, чтобы он стремился им подражать. Тут скорее литература. Жизнь нашего брата Блаженного Генриха Сузо приводит его в восторг, однако боюсь, что она послужит ему лишь поводом для упражнений в красноречии.
– Жизнь Сузо – упражнения в красноречии! – воскликнул отец приор, который в своем ордене слыл великим оратором.
– Да, наш брат Рикардо ощущает себя витией, и его призвание – не более чем призвание к витийству. К витийству церковному, которое он полагает наиболее соответствующим складу своего таланта. Он мечтает вернуть времена Савонаролы, Монсабре, Лакордера… И – кто знает? – может, о большем. Это откровение, которое он, по его словам, имел, это «Идите и проповедуйте Благую Весть» влечет его не ради Благой Вести и даже не ради Евангелия, а ради самой проповеди…
– Отец Педро! Отец Педро! – воскликнул отец приор укоризненно.
– Ах, отец Луис! Знаете, я ведь в своем деле не новичок… Многие послушники прошли через мои руки… И меня всегда увлекали, может даже чрезмерно, такие вот психологические изыскания…
– Гм! Гм! Да ведь это отдает неким…
– Да, понимаю, отец приор; но, поверьте, я знаю кое-что о призвании. А призвание этого юноши – дай-то Бог, чтобы я не ошибался, – не к монашеству, а к проповедничеству. А может, к чему-то большему…
– Как, как? Отец наставник, о чем это вы? Что вы хотите этим сказать?
– Призвание… ну… к епископату!
– Вы так полагаете?
– Еще бы! В глубине души этот юноша до крайности самолюбив. Может быть, он содеял то… ну, с несчастной девушкой, которую обманул, – может быть, причиной тому был эгоизм. А испытав разочарование или что бы там ни было, он явился сюда, к нам, отчасти из романтизма, а отчасти – желая пококетничать…
– Пококетничать монашеской рясой! – воскликнул отец приор и расхохотался самым искренним образом, показывая красивые зубы. – Кокетничать рясой! Боже всемогущий! Ну вы и придумаете, отец Педро!
– Да, пококетничать положением монаха, сказал я, и не беру своих слов назад. Мы с вами, отец Луис, не кокетничаем, но в нынешние времена и для таких натур, как наш послушник брат Рикардо, монашество – некий вызов миру, некая романтическая исключительность. И потом, честолюбие…
– Честолюбие!
– Да, честолюбие! Есть положения, есть почести и слава, которых отсюда, из монастыря, можно достичь с большей вероятностью, чем откуда бы то ни было. И я полагаю, что этот юноша метит очень высоко… Оставим это. Он не первый, кого призвание к лицедейству, наложившееся на определенные разочарования и на глубокую набожность – я не отрицаю этого, да и как бы я мог это отрицать? – привели в монастырь. Вспомните, отец мой, брата Родриго, кармелита, который блистал как актер в аристократических домашних театрах, но, вместо того чтобы поступить на сцену, ушел в монастырь…
– Да и сейчас, уже вне монастыря, он проповедует новую веру, с повадками…
– Комедианта, всегда комедианта! И в этом нашем брате Рикардо тоже сидит комедиант. Только он надеется исполнить заглавную роль, увенчавшись митрой, или – кто знает? – может, мечты его простираются дальше…
– Что, что? Договаривайте, отец мой, договаривайте.
– Нет, нет, ничего! Мне кажется, это бы означало уже злословить.
– Мне уже давно так кажется.
– Но в конце-то концов, отец приор, я считаю своим долгом предоставить вам эти сведения. Юноша считает, что ряса ему очень идет. Я подозреваю даже, что он находит себя красивым и хотел бы блистать на кафедре в белом облачении.
– Какой же вы коварный, отец Педро!..
– Стреляный воробей, отец приор, стреляный воробей…
«Которому уже не сделаться епископом», – подумал про себя отец приор, сам уже давно распрощавшийся с подобными надеждами.
Ах, если бы этот разговор между отцом приором и отцом-наставником слышала несчастная Лидувина!
Но Лидувина, которая уже и не ждала своего Рикардо, когда тот принял постриг, – и она тоже, с сухими глазами и опустошенным сердцем, похоронила себя в монастыре. Сначала Лидувина хотела вступить в орден, занимающийся обучением девочек, чтобы исподволь внушать воспитанницам то отвращение и презрение к мужчинам – эгоистам и подлецам, – какое сама испытывала. Но разве не рискует она тем, что выдаст себя, выкажет истинные свои чувства? Разве месть не усугубит страданий, не подольет масла в огонь? Нет, лучше поступить в орден, ведущий молчаливую, созерцательную, отшельническую жизнь, полную покаяния и молитвы, – в монастырь, о двери которого разбиваются отголоски внешнего мира. Там она при жизни похоронит себя, ожидая смерти, Божьего суда и любви, которая насыщает.