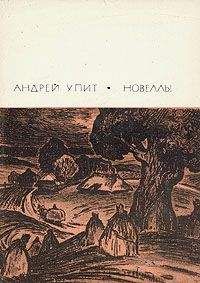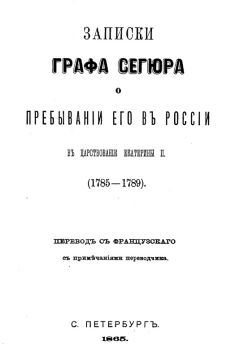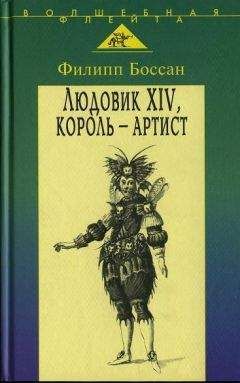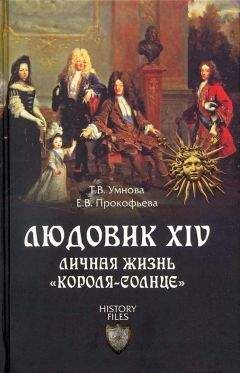Такого ликования Авиньон давно не переживал. Когда всадники со своими пленниками въехали в ворота, огромная толпа преградила им дорогу. «Да здравствует Король! Да здравствует наш спаситель Бигоне!» — такие возгласы раздавались из тысяч уст. Но командир всадников угрюмо молчал. Он тоже был из тех обманутых, которые ставили Национальное собрание выше попираемого им Помазанника Божия Его Королевского Величества Людовика XVI. Он приказал и своим всадникам охранять плененного изверга, иначе бы тому не спастись от праведного народного гнева. Но он не мог воспрепятствовать тому, что возрастающая толпа всячески поносила и бесчестила убийц, дети и старцы плевали им в лицо, добродетельные супруги из окон забрасывали гнилыми плодами и лили сверху помои и далее кипяток, а мужчины швыряли под ноги битое стекло.
В тюрьме Колченогий Леонард сказался больным и велел позвать лекаря. Но тот смог обнаружить лишь шесть незначительных порезов на хромой ноге и четыре точно таких же на здоровой, десятка два синяков на тщедушном его теле и два ошпаренных места — одно на затылке и другое — на левом локте. Все прочее относилось только к одежде, но это было уже не дело медицины, и врач мудро посоветовал позвать заодно и портного. От всех хворей врач прописал Леонарду строгую диету — полпорции хлеба и полную порцию воды и сон на голом полу, без соломы, простыни и одеяла. Журдан же в своей беспредельной дерзости сказал врачу:
— Благодарю, синьор. От укусов вшей мне лечиться не надо, а занозы я вытащу и без вашей помощи.
К Бигоне он просто повернулся спиной, а командиру караула сказал:
— Я буду отвечать только Комиссарам Национального собрания. С пуговичниками буду иметь дело, когда на Рождество стану шить новый кафтан.
Оскорбленный и задетый Бигоне ушел, чтобы продолжать поимку остальных негодяев. На другой день его славные деяния были увенчаны новыми победами. Он нашел бывшего генерал-майора разбойной армии Пеишавена, который скрывался в одной усадьбе, в двух милях от Авиньона, в стоге сена. При нем, так же, как при остальных злодеях, нашли богатую добычу, большую сумму денег, много серебряной посуды, что было, разумеется, отнято вместе с принадлежавшим и самому грабителю. Поиски неустанно продолжались, чему помогали богатые, пострадавшие так же, как горожане, земледельцы. К чести господина Шуази, награжденного благодарностями тысяч горожан, число арестованных уже в первые три дня превышало сто пятьдесят человек.
Жители Авиньона сгорали от любопытства и нетерпения, каким же образом будут казнены злодеи. Однако большинство из последних проявляли непонятное безразличие и не сомневались в благоприятном для них исходе дела. Никто из них не признал себя виновным. Все якобы только исполняли приказ другого убийцы. Даже за злодейские дела 16 октября, план которых уже к вечеру был разработан на собрании в клубе, им в случае надобности было обещано заступничество. У всех были соумышленники, а среди них и сам воинский Начальник господин Ферье. Журдан открыто признался, что во всем действовал с ведома Комиссаров Буше, Камоса, аббата Мило и других. От этого последнего Национальное собрание потребовало ответа, и он поспешно отправился в Париж.
Обеспокоенный медленным ходом дела и, в особенности, не в силах дождаться суда над своим величайшим врагом Журданом, Бигоне каждый день совещался с друзьями. Новые Комиссары Национального собрания держались весьма подозрительно. Увидев, как арестованные были препровождены в тюрьму, они отнюдь не разделяли народного ликования, а жили в скрытном уединении и даже не допускали к себе лучших и богатейших горожан и членов Магистрата. Можно было подумать, что они умышленно затягивают расследование деяний убийц и грабителей и выжидают, чем кончится поездка аббата Мило в Париж. Даже герою Бигоне всего лишь раз, подкупив солдат, удалось попасть к ним. Но вскоре же выйдя оттуда, он не сказал ни слова, только долго и задумчиво сидел в своем жилище. И он, и вся лучшая часть обывателей с большим удивлением увидели, что через несколько дней выпущенная из тюрьмы дочь рыбной торговки Жозефина снова, задрав нос, ходит по городу, так же как и многие из менее значительных негодяев.
Но Бигоне был не тот человек, который легко сдается и успокаивается. Поговорив с друзьями, он начал часто посещать господина Шуази, который с самого начала держался благосклонно к лучшей части городских жителей, хотя открыто выступать против Комиссаров не осмеливался. По приказанию Бигоне состоятельные граждане стали приносить господину Шуази и его офицерам лучшее, что у них имелось из снеди и прочих припасов и доставляли им различные приятства и развлечения. По ночам в их квартирах звучали песни и музыка, а с утренними сумерками прекрасные дамы и девицы, опьяненные вином и любовью, бросали еще с улицы обратно в окна поцелуи бравым освободителям Авиньона и своим покорителям. Так, благодаря всему этому, удалось добиться, что Бигоне как представителю от граждан, было разрешено принимать участие в надзоре над арестованными грабителями, которые находились в ведении господина Шуази. И Бигоне делал все возможное, чтобы эти мерзавцы в тюрьме не обжирались и не становились слишком заносчивыми. Дабы облегчить Комиссарам следствие и судопроизводство, он собрал от жителей все, кто что знал или слышал от других о бесчинствах убийц и грабителей, и велел своему секретарю Фальконету написать на каждого отдельное обвинение. Никто не удивился, когда он с присущим ему рвением собрал все, что знал сам и что обыватели могли поведать о кровавых злодеяниях разбойного атамана Журдана. Пять больших листов Фальконет исписал сплошь, но кто может ручаться, что там была вся правда или перечислено все, где этот зверь в образе человека преступил Божьи и человеческие законы? Пользуясь благорасположением господина Шуази и подружившись так же с Командиром караульных солдат, Бигоне со своим секретарем мог попадать в ту камеру, где этот архиграбитель трепеща ожидал стократно заслуженной им казни.
Журдан сидел на каменном полу, привалившись спиной к стене. Над головой, под самым потолком, было зарешеченное окно, сквозь которое, если встать на небольшой табурет, можно было видеть кусочек синего неба. В камере уже был сумрак. В углах шмыгали крысы. У Бигоне даже сердце дрогнуло от радости при виде того, в какую ужасную, смрадную дыру брошен его ненавистный враг. Он подошел ближе и с удивлением увидел, что этот закоснелый злодей совсем не молит Бога, каясь в своих грехах, а занят тем, что полой кафтана начищает пряжки на башмаках. Оглянувшись и увидев, что караульный солдат остался за дверью, Бигоне, возвысив голос, сказал:
— Я Бигоне, уполномоченный Комиссара Его Королевского Величества и воинского Начальника господина Шуази. Именем Его Величества я приказываю тебе встать и остаться стоять.
Но главарь убийц остался в прежней позе, только принялся за другую пряжку. И ответил:
— Его Величество само обязано вставать перед Национальным собранием. Я слушаюсь только Комиссаров Национального собрания и их уполномоченных.
Это было огромным оскорблением. Но Бигоне не смел настаивать, не зная точных пределов своих полномочий. Поэтому он сдержал гнев и спокойно сказал:
— Я и уполномоченный Комиссара Национального собрания. Прошу встать.
Тогда Журдан встал и остался стоять. И Бигоне испытывал большую радость от того, что тот не смеет перед ним ни сесть, ни прислониться к стене. Сам он с надлежащим достоинством сел на табурет и, вытянув ноги, как будто неумышленно опрокинул кувшин с водой, принесенной на ночь и на следующий день. Вода облила Журдану ноги, но и тогда он не посмел шелохнуться и продолжал стоять в луже. И Бигоне, восседавшему на табурете, показалось, что он и впрямь уполномоченный Комиссара Его Королевского Величества и Национального собрания с неограниченной властью и положением. Стоящий перед ним в луже воды Журдан казался ему столь же ничтожным, как какая-нибудь козявка или блоха, которую можно просто раздавить ногтем. Поэтому в его фигуре и голосе была такая отвага и достоинство, которые убедили бы любого, но не такого закоренелого негодяя, как Журдан.
— Ты, Журдан, предводитель авиньонских грабителей и убийц и величайший враг всех порядочных и достойных людей. Ты признаешь, что это ты и есть?
— Нет, не признаю.
— Признаешь. Я тут велел описать все бесчинства и преступления, которые ты совершил. Число твоих дел столь велико, что ты и сам их не сможешь вспомнить, когда придется отвечать перед судом. Но чтобы ты мог все же обдумать и знать, что отвечать, я велел Фальконету поработать за тебя. Ты хоть признаешь, какое у меня доброе сердце?
— И это не могу признать. Доброе сердце никогда не находится купно с такой дурной головой, как у тебя. Я легко могу перечислить, что я совершил. Авиньонские бабы все считают в десятикратном размере. Где у тебя написано десять, я вижу единицу.