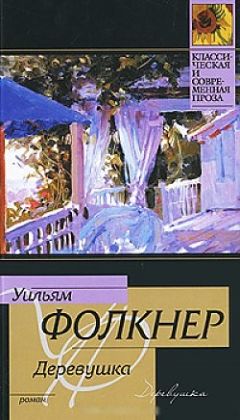Они собирались по меньшей мере раз в неделю, а обыкновенно еще чаще. По воскресеньям они с утра встречались в церкви и рассаживались в ряд на двух скамьях, которые с общего согласия паствы и священника стали теперь их скамьями, как будто это был класс или даже изолятор. Они встречались на деревенских празднествах в опустевшей школе, которой предстояло пустовать почти два года, до появления нового учителя. Они всегда приходили гурьбой, в парных играх выбирали только друг дружку, мальчики были дурашливы, упрямы и шумливы. Это было похоже на еженедельное собрание масонов, очутившихся вдруг где-нибудь в Африке или Китае. Уходили они тоже все вместе и тесной, шумной гурьбой шагали по дороге при свете луны или звезд, чтобы проводить ее до ворот отцовского дома и потом разойтись. Никто не знал, искали мальчики случая проводить ее домой наедине или нет, потому что люди ни разу не видели, чтобы она возвращалась откуда-нибудь или шла куда-нибудь одна, да вдобавок пешком, если была хоть малейшая возможность этого избежать.
А еще они встречались на спевках, крещениях и пикниках. В тот год предстояли выборы, и после конца сева и окучивания хлопка устраивались не только спевки на весь день и крещения по первым воскресным дням каждого месяца, но и предвыборные пикники. Много недель подряд можно было видеть Уорнерову коляску среди других экипажей где-нибудь подле деревенской церкви или на опушке леска, где женщины в изобилии раскладывали на длинных дощатых столах холодные закуски, которых хватило бы на неделю, меж тем как мужчины стояли у помостов, откуда говорили речи кандидаты на окружные должности в сенат штата и в конгресс, а молодые кучками или парами слонялись по леску или же, если удавалось заманить девушек куда-нибудь в укромный уголок, по-юношески неуклюже и грубо ухаживали, обольщали. Она не слушала речей, не накрывала столы, не пела. Вместе с двумя, тремя или четырьмя меньшими девочками она просто сидела, окруженная шумной, нестройной ватагой, ее ядро, центр, средоточие, точно так же, как и в прошлом году на школьных вечеринках, источая сладостный дурман зачатия, материнства, но никому не позволяя до себя дотронуться и даже в этой расковывающей, манящей атмосфере, которой она дышала и в которой двигалась (или, вернее, сидела неподвижно), умудряясь сохранить непреклонную чистоту, недоступная даже мимолетному, случайному порыву, даже вспышке протестантского религиозного исступления или любовной страсти. Она словно бы знала, если не имя и не лицо своего суженого, то, во всяком случае, ту минуту, тот миг, для которого она предназначена, и ждала этой минуты, а не той, когда можно будет садиться за стол, как казалось со стороны.
А еще они встречались дома, у девочек. Об этих встречах они, конечно, уговаривались заранее, и устраивали их, конечно, другие девочки, но если она и знала, что ее приглашают, чтобы привлечь мальчиков, то виду не показывала. Она ночевала у подруг, иногда гостила у них по два и по три дня. Ей не позволяли ходить вечером на танцы ни в свою школу, ни в соседние школы или лавки. Она об этом никогда и не заикалась; или, вернее, брат строго-настрого запретил ей это, прежде чем кому-нибудь в голову пришло, что она может туда попроситься. Но бывать у подруг он ей не мешал. Он даже сам отвозил ее и привозил назад на своей лошади, как возил прежде в школу и из школы, по той же самой причине, по какой не позволял ей уходить из школы одной и встречать его у лавки, все так же кипя злобой и мрачным негодованием, фанатично убежденный в справедливости своих подозрений, в том, что он не зря тратит порох, ехал за много миль, а она все так же держала свой клеенчатый ранец с ночной рубашкой и зубной щеткой, захваченными по настоянию матери, и той же рукой цеплялась за помочи его комбинезона, и мягкое млечное тело терлось об его спину, и в ушах его звучало беспрерывное чавканье, и, наконец, он осаживал лошадь перед домом, где ее ждали в гости, и рычал:
— Да перестань ты жевать эту чертову картошку, слезай, отпусти меня, мне же работать надо!
В начале сентября в Джефферсоне открылась ежегодная окружная ярмарка. Она поехала с родителями в город и четыре дня прожила в гостинице. Все мальчики и три девочки уже ждали ее там. Пока отец смотрел скотину и всякие земледельческие орудия, а мать оживленно толкалась среди женщин, выставивших свои варенья, соленья и печенья, она целыми днями бродила от тира к качелям, а от качелей к эстраде, в том же платье, которое носила в школу год назад, только с выпущенным подолом, окруженная шумной свитой дерзких и задиристых юнцов, и все время что-то жевала или раз за разом, но слезая и не переставая жевать, каталась верхом па деревянной лошадке карусели, и ее длинные ноги олимпийской богини оголялись почти до бедер.
Когда ей пошел пятнадцатый год, вокруг нее уже увивались юноши. Они были ростом со взрослых мужчин и, во всяком случае, работали наравне со взрослыми — эти восемнадцати-, девятнадцати-, двадцатилетние парни, которым, по обычаям тех времен и тех мест, пора уже было подумать о сватовстве и хотя бы ради нее обратить внимание на других девушек, а уж ради самих себя — на любую девушку. Но они не думали о женитьбе. Их было больше десятка, этих парней, которые в ту вторую весну, в какую-то минуту, в какой-то миг, ее брат даже не мог бы сказать, когда именно это случилось, ворвались в ее спокойную орбиту, словно обезумевшее стадо диких быков, и безжалостно отшвырнули прочь подростков, которые окружали ее прошлым летом. Пикники в этом году бывали не так часто, как перед выборами, к счастью для ее брата, который теперь ездил со всей семьей в коляске, угрюмый, кипящий злобой, в жаркой, мешковатой черной паре и крахмальной сорочке без воротничка, и, словно охваченный каким-то недоверчивым удивлением, даже не рычал на нее больше. Он изводил миссис Уорнер до тех пор, пока та не заставила ее носить корсет. И всякий раз, увидев ее вне дома, одну или на людях, ощупывал, проверяя, надет ли корсет.
На спевках и крещениях он больше не бывал, но чуть не силой гнал туда родителей. Так что только по воскресеньям молодым людям предоставлялась хоть какая-то свобода. Они являлись к церкви все разом, на лошадях и мулах, которых лишь накануне выпрягли из плуга, а завтра на заре должны были снова впрячь в плуг, и поджидали коляску Уорнера. Только здесь и видели ее теперь юные прошлогодние друзья, — пока она шла от коляски до церковной двери, скованно и неловко, в корсете и выпущенном детском платье, мелькала на миг и сразу же исчезала в волнующейся толпе тех, кто отнял ее у них. А еще через год в воскресное утро к дому будет подъезжать уже настоящий кавалер, расфранченный, в сверкающей лаком пролетке, заложенной выездным жеребцом или кобылой, который оттеснит нынешних парней. Но это будет только через год; а пока около нее царит вечная кутерьма, хотя и удерживаемая в рамках приличия, или, по крайней мере, благоразумия, святостью храма и воскресного дня, обузданное вожделение, словно свора псов, настойчиво преследующая совсем еще неопытную и ничего не подозревающую молодую сучку. Они гуськом входили в церковь и усаживались на задней скамье, откуда им была видна ее золотистая, как мед, скромно потупленная голова рядом с родителями и братом.
Из церкви ее брат куда-то уезжал, как считалось, — развеяться, и весь долгий, дремотный день мулы с проплешинами от постромок томились около Уорнеровой изгороди, а хозяева их сидели на веранде, с тщетным упрямством стараясь пересидеть друг друга, грубые, шумливые, одуревшие, злые не друг на друга, а на саму девушку, которой, видно, было все равно, здесь они или нет, она, видно, даже не знала, что они стараются один другого пересидеть. Люди постарше, проходя мимо, видели их: человек шесть в ярких воскресных рубашках с лиловыми или розовыми резинками на рукавах, напомаженные волосы над выбритыми, загорелыми шеями, начищенные ботинки, грубые, простецкие лица, глаза, в которых застыло воспоминание о минувшей неделе тяжкого труда на полях и мысль о следующей, такой же тяжкой неделе; и среди них девушка, которая и тут оставалась центром, средоточием — тело, которому было просто слишком тесно в детском платье, словно ее, сонную, ночным потопом вынесло из рая и прохожие, увидев ее, прикрыли чем попало, а она даже не проснулась. Так они сидели, словно связанные по рукам и ногам, задиристые, шумные, злясь на убегающее впустую время, а тени меж тем становились все длиннее, лягушки и козодои заводили свою жалобную песню, и светлячки начинали летать над ручьем. А потом выходила миссис Уорнер, суматошливая, болтливая, и, болтая, гуртом гнала всех закусить холодными остатками плотного обеда за стол под лампой, вокруг которой тучей вилась мошкара, и тут они сдавались. Уходили они все вместе, кипя враждой и блюдя благопристойность, садились на своих терпеливых мулов и лошадей и, по молчаливому уговору, яростно скакали к броду через ручей в полумиле от дома Уорнера, а там спешивались, привязывали лошадей и мулов и бились на кулаках свирепо и молча, а потом смывали в ручье кровь, снова садились верхом и разъезжались по домам, под холодной луной, через засеянные поля с ободранными пальцами, расквашенными губами и подбитыми глазами, хотя бы на время избавившись от злобы, досады и желания.