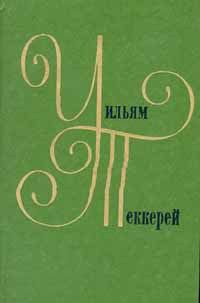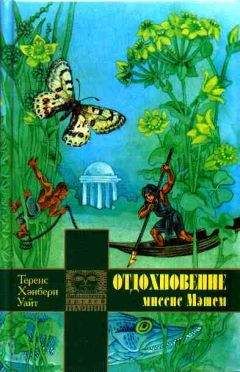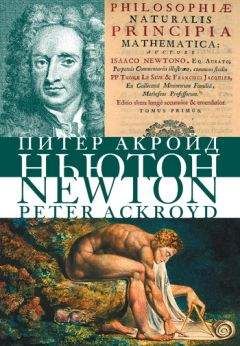Бедняга Поппи занимает не слишком высокое место в ряду земных тварей; но не следует думать, что ниже его никого нет; эго было бы жестокое заблуждение. Помню, на одном ярмарочном балагане висела афиша, приглашающая публику взглянуть на таинственное животное, неизвестное ученым-натуралистам; называлось оно гаже. Любопытствующие входили в балаган, и там взору их представал просто-напросто хилый, лядащий, мутноглазый поросенок, весь в парше, с обвислыми, сморщенными боками. Раздавались негодующие возгласы: "Безобразие! Надувательство!" Но балаганщик, не смущаясь, говорил: "Минутку терпения, джентльмены. Перед вами свиньи, так? Но не просто свинья, а в некотором роде феномалия природы. Ручаюсь, такой отвратительной свиньи вы еще никогда не видали!" Все соглашались, что не видали. "А теперь, джентльмены, я докажу вам, что у нас все по-честному, без обмана. Прошу взглянуть сюда (тут он выталкивал вперед еще одного поросенка), — и вы убедитесь, что как та ни гадка, а эта гаже". Так вот, я хочу сказать, что как ни гадка порода Попджоев, но порода Гальгенштейнов еще гаже.
Все эти пятнадцать лет Гальгенштейн прожил, что называется, в полное свое удовольствие; настолько полное, что к описываемому времени он вовсе утратил способность получать удовольствие от чего бы то ни было: склонности оставались, а удовлетворять их не было сил. К примеру, он сделался необыкновенно разборчив и привередлив в выборе блюд и вин; недоставало ему лишь вкуса к еде и питью. При нем состоял повар-француз, который не мог возбудить у него аппетит, врач, который не мог его вылечить, любовница, которая надоела ему на третий день, духовник — некогда фаворит бесподобного Дюбуа, — который пытался взбодрить его то наложением епитимьи, то чтением галантных сочинений Носэ и Ла-Фара. Все чувства его иссякли и притупились; лишь какая-нибудь уродливая крайность могла гальванизировать их на короткое время. Он достиг той степени нравственного упадка, что была не в диковинку среди аристократов его времени, когда одни становятся духовидцами, другие искателями философского камня, а третьи уходят в монастырь и надевают власяницу, или пускаются в политические интриги, или влюбляются в пятнадцатилетнюю судомойку, или лебезят перед каким-нибудь принцем крови, вымаливая улыбку и трепеща от хмурого взгляда, или же сходят с ума от горя, получив отказ в камергерском ключе. Последняя радость, которую мог припомнить граф Гальгенштейн, была им испытана в день, когда он с непокрытой головой три часа ехал на лошади под проливным дождем, сопровождая карету любовницы курфюрста вместо графа Крейвинкеля, с которым он из-за этой чести дрался на дуэли и проткнул его шпагой. Описанная прогулка принесла Гальгенштейну жестокий ревматизм, мучивший его много месяцев, а также пост баварского посланника в Англии. Он был богат, не требовал жалованья и в роли посланника имел вполне представительный вид. Что же до обязанностей, то их исполнял отец О'Флаэрти, на которого также была возложена задача шпионить за графом — чистейшая, впрочем, синекура, ибо никаких решительно чувств, желаний или собственных мнений тот не имел.
— Право же, святой отец, все мне безразлично, — говорил почтенный дипломат в минуту, когда его застает наше повествование. — Вот вы уже целый час рассуждаете о смерти Регента, и о герцогине Фаларис, и о коварном Флери, и бог знает о чем еще; а меня все это так же мало трогает, как если б мне сказали, что один из моих галь-генштейнских мужиков зарезал свинью или что мой камердинер, вот этот самый Ла-Роз, соблазнил мою любовницу.
— А он и в самом деле сделал это! — сказал отец О'Флаэрти.
— Helas, monsieur l'Abbe! [28] — отозвался Ла-Роз, в это время приводивший в порядок огромный парадный парик своего господина. — К несчастью, вы ошибаетесь. Надеюсь, monsieur le Comte не рассердится, если я скажу, что рад бы оказаться виновным в том, что вы мне приписываете.
Граф оставил без внимания остроумный ответ Ла-Роза и продолжал свои жалобы.
— Да, да, аббат, все мне безразлично. Недавно я за один вечер проиграл в карты тысячу гиней — и хоть бы это меня самую малость расстроило! А ведь было время, разрази меня бог, когда после проигрыша сотни я две недели не мог успокоиться. На следующий день мне, напротив, повезло, и я, играя в кости, тринадцать раз подряд выиграл. Тут в игре случился перерыв — послали, кажется, за новыми костями; и что же бы вы думали! Я задремал со стаканчиком в руке!
— Поистине, тяжелый случай, — сказал аббат.
— Если бы не Крейвинкель, я бы погиб, уверяю вас. Удар, которым я проткнул его насквозь, спас меня.
— Еще бы! — сказал аббат. — Ведь если бы ваше сиятельство не проткнули его, он, без всякого сомнения, проткнул бы вас.
— Пфа! Вы не так поняли мои слова, monsieur l'Abbe. — Он зевнул. — Я хотел сказать… экий дрянной шоколад!.. что едва не умер от скуки. А мне вовсе не хочется вообще умирать. Будь я проклят, если это случится.
— Когда это случится, хотели вы сказать, ваше сиятельство, — возразил аббат — седой толстяк-ирландец, воспитанник College Irlandois в Париже.
Его сиятельство даже не улыбнулся; будучи непроходимо глуп, он не понимал шуток и потому ответил:
— Сэр, я хотел сказать то, что сказал. Я не хочу жить; но умирать я тоже не хочу; а изъясняться умею не хуже других и просил бы вас не поправлять мою речь, ибо я не мальчишка-школьник, а особа знатного рода и немалого достатка.
И, проговорив эти четыре фразы о себе (ни о чем другом он не был способен говорить), граф откинулся на подушки, совершенно обессиленный таким порывом красноречия. Аббат, сидевший за небольшим столиком у изголовья его постели, вновь занялся делами, ради которых и пришел сюда в это утро, время от времени передавая посланнику ту или иную бумагу для прочтения и подписи.
Немного спустя на пороге появился monsieur Ла-Роз.
— Ваше сиятельство, там пришел человек от портного Панталонгера. Прикажете позвать его, или пусть просто отдаст мне что принес?
Граф уже чувствовал себя весьма утомленным: он подписал целых три бумаги, причем даже пробежал глазами первые строчки двух из них.
— Зови его сюда, Ла-Роз; да погоди, сперва подай мой парик; перед этими прощелыгами дворянин всегда должен выглядеть дворянином. — И он водрузил себе на голову огромное сооружение из надушенных конских волос гнедой масти, долженствовавшее внушить посетителю благоговейный трепет.
Вошел паренек лет семнадцати в щегольском камзоле, с голубой лентой, повязанной вокруг шеи, — не кто иной, как наш друг Том Биллингс. Под мышкой он нес предназначенные для графа панталоны. Никакого благоговейного трепета он, судя по всему, не испытывал; и, войдя, устремил на его сиятельство любопытный и дерзкий взгляд. Точно так же оглядел он затем и капеллана, после чего весело кивнул ему, как старому знакомому.
— Где я мог видеть этого паренька? — сказал отец О'Флаэрти. — А-а, вспомнил. Вы, кажется, вчера были в Тайберне, мой юный друг?
Мистер Биллингс важно кивнул головой.
— Я ни одной казни не пропускаю, — сказал он.
— Истинно турецкий вкус! А скажите, сэр, вы это делаете ради удовольствия или по надобности?
— По надобности? Какая же тут может быть надобность?
— Ну, скажем, вы желаете обучиться ремеслу, или же кто-то из ваших родичей подвергался этой процедуре.
— Мои родичи не из таких, — гордо возразил мистер Биллингс, глянув прямо в глаза графу. — Пусть я теперь всего лишь портной, но мой отец дворянин и ничем не хуже его милости; ведь его милость — это он, а вовсе не вы; вы — папистский священник, вот кто; и мы вчера не прочь были приласкать ваше преподобие горстью протестантских камней.
Граф несколько повеселел; ему приятно было, что у аббата сделался встревоженный и даже глуповатый вид.
— Что с вами аббат, вы побледнели как мел, — сказал он.
— Не так уж приятно быть насмерть забитым камнями, милорд, — возразил аббат, — тем более за доброе дело. Ведь я хотел облегчить последние минуты бедняге-ирландцу, спасшему меня, когда я находился в плену во Фландрии; если бы не он, Мальборо повесил бы меня точно так же, как вчера повесили самого беднягу Макшейна.
— Разрази меня бог! — воскликнул граф, оживившись. — А я-то все думал, почему мне так знакома показалась физиономия грабителя, отнявшего мой кошелек на Блекхитской дороге. Теперь понятно: он был секундантом у негодяя, с которым я здесь дрался на дуэли в году тысяча семьсот шестом.
— На поле за Монтегю-Хаус, а противника звали майор Вуд, — подхватил мистер Биллингс. — Мне это все известно. — И он посмотрел на графа еще более многозначительно.
— Вам? — в крайнем изумлении воскликнул граф. — А вы кто такой, черт побери?
— Моя фамилия Биллингс.
— Биллингс? — переспросил граф.
— Я из Уорикшира, — продолжал Биллингс.
— Вот как!