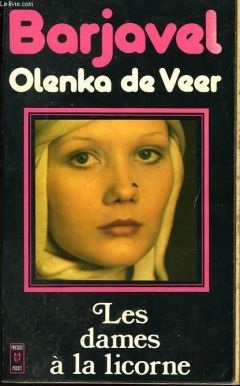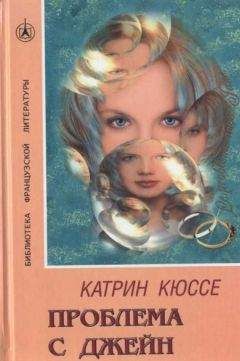Гризельда резким движением высвободила руку и встала. Холодным тоном бросила:
— Пора возвращаться.
Замок оставался на прежнем месте. Это был замок Кинкельдов. Его разрушили англичане в XVII веке. Затем его восстановили, но он был снова разрушен ирландцами в начале XIX века, и сейчас от него оставались только стены. Остатки рода Кинкельдов давно перебрались в Америку.
* * *
Ни он, ни она не произнесли ни слова во время обратной дороги. Застыв рядом на жестких сиденьях, они, казалось, были превращены в камень гремящим демоном машины, охвачены им и стали его частью, подобно медной трубе клаксона и глазам-фарам улитки. Мотор торжествующе рычал и фыркал на своих пассажиров синим облаком, воняющим бензином.
Когда они подъехали к началу дамбы, Гризельда ожила, повернулась к Шауну Аррану и попросила остановиться. Она хотела вернуться домой пешком. Спрыгнув на землю, он протянул ей руку, чтобы помочь сойти. Но она сделала вид, что не заметила его руки и сошла с машины самостоятельно, опираясь на сиденье.
Когда она стояла перед ним, опустив взгляд, она видела его башмаки из грубой кожи напротив тонкой туфельки из гладкой замши, выглядывавшей из-под края ее юбки. Осторожно спрятав ее, она подняла глаза на Шауна и улыбнулась ему, пробормотав:
— До понедельника!..
Внезапно ей почудилось, что сейчас он устремится вперед, к ней, схватит ее. Но он, странно дернувшись, ограничился тем, что молча забрался на свое сиденье. Затем с силой рванул рычаги; металл и огонь воспроизвели рев дракона, которому наступили на хвост, и машина рванулась с места, словно сойдя с ума, рыча и разбрасывая камни из-под колес.
Гризельда удовлетворенно вздохнула и направилась по дамбе к дому. Заканчивался вечер, спокойный и мирный. Шум мотора затихал за ее спиной, а рокот морских волн приближался спереди. Прилив достиг высшей точки. Огромная масса воды на краткий миг застыла в равновесии, остановившись в своем вечном движении, после чего началось отступление. На гладкой поверхности моря играли пурпурные, аквамариновые и зеленые краски. Остров лежал перед ней, массивный и знакомый, словно вынырнувший из волшебного путешествия по переливам волн. Ардан, обезумевший от радости, мчался с лаем к ней по склону. Гризельда почувствовала, что охватившая ее радость сейчас заставит ее танцевать. Тело казалось ей необычно легким, каждое его движение было согласовано с морем и небом. Она побежала навстречу красно-белому псу с пятнами тени, и они встретились на нижней части лужайки. Ардан подпрыгнул и лизнул ее в лицо. Схватив его и прижав к себе, Гризельда упала вместе с ним на траву; она смеялась, пес лаял. Море со вздохом начало отступать.
* * *
Следующее воскресенье было третьим в этом месяце, и в этот день преподобный отец Джон Артур Бертон после окончания службы обедал на острове Сент-Альбан. Высокий, худой, давно облысевший старик, судя по всему, в молодости обладавший рыжей шевелюрой. Несколько лет он провел в Папуасии, где проповедовал среди туземцев христианство. Вернулся на родину хромым, облысевшим и без жены. Злые языки утверждали, что ее, а заодно и левую ногу проповедника съели новообращенные. Если и так, то его душа осталась незатронутой. Он по-прежнему был розовым как снаружи, так и изнутри.
— Обратимся к Господу, — произнес он, обращаясь к собравшемуся в салоне семейству. Это давно превратилось в традицию, когда преподобный отец совершал непродолжительный обряд перед тем, как собравшиеся садились за стол. Это ежемесячное общение с Богом избавляло обитателей Сент-Альбана от утомительных воскресных поездок в Муллиган.
Сэр Джон стоял под портретом сидевшего на коне Джонатана. Справа от него небольшой группой стояли леди Гарриэтта, Амбруаз Онжье и тетушка Августа, посетившая остров с намерением сообщить брату что-то важное. Слева от сэра Джона толпились его дочери. Перед собравшимися стоял преподобный Бертон; справа от него — зеленое кресло, слева — коричневый пуф с кисточками, а сзади — низкий столик, на котором возвышалась громадная ваза с охапкой цветов.
Закрыв глаза и нахмурившись в стремлении проникнуть в души присутствующих, он произнес:
— Мы снова собрались перед Тобой, Господи, чтобы обратиться к Тебе с нашими молитвами, поблагодарить Тебя за Твои дары и попросить Тебя о бесконечном снисхождении к нашим грехам и нашим слабостям. Ты хорошо знаешь этот дом, в котором любят и уважают Тебя. Мы просим Тебя, Господи, не лишать обитателей этого дома своей защиты и своего мира. Аминь!..
— Аминь!.. — хором отозвались собравшиеся.
Внезапно раздался негромкий, дрожавший от сдержанного гнева голос:
— Хотела бы я знать, кто этот Господь, к которому вы обращаетесь?
Это был голос Элис. Она буквально испепеляла взглядом потрясенного пастора. Ее сердце отчаянно билось в груди под накидкой с черными кружевами. Поднятые к груди руки сжимались в крепкие агрессивные кулачки. Она с пылом и возмущением продолжила:
— Можно подумать, что вы обращаетесь к капитану полиции! Вы словно приглашаете его пообедать вместе с вами! Вам не приходит в голову, что вы говорите с Богом?
Члены семейства смотрели на Элис, вытаращив глаза. Все были ошеломлены настолько, что не могли ни пошевелиться, ни сказать что-нибудь.
Элис глубоко вздохнула. Ее слова были всего лишь прологом, они помогли сохранить мужество для продолжения.
— Я должна сообщить вам, что я католичка!.. Я стала членом Церкви! Единственной истинной церкви, католической, апостольской, римской церкви!.. Позавчера меня крестили.
Все присутствующие окаменели. На кухне Эми бросила сковородку и замахала руками, призывая всех к молчанию. Служанки замолчали и застыли. Сквозь стены до них не доносилось ни звука, но они прислушивались.
Элис продолжала, совсем негромко:
— И я собираюсь уйти в монастырь. Как можно скорее. И я останусь там до конца своих дней.
Сказав все что она хотела, девушка почувствовала облегчение. Опустив глаза, она повернулась и вышла из салона, сознавая, что находится в гармонии с собой и миром.
— Девочка сошла с ума! — закричала леди Гарриэтта.
— Господи Иисусе!.. Господи Иисусе!.. — повторял, как заведенный, пастор.
— Мне очень жаль. — начал Амбруаз Онжье.
Гризельда сдержанно улыбалась. Конечно, она немного удивилась, но вся эта история показалась ей забавной. Джейн, красная как рак, яростно грызла ногти. Элен, потрясенная тем, что происшествие случилось на глазах у Амбруаза, украдкой поглядывала на него, пытаясь понять, насколько он шокирован случившимся. Китти подумала, что Элис пришла к такому ужасному решению только потому, что чувствовала себя несчастной. Она выскочила из салона и помчалась на поиски сестры.
Эми, снедаемая любопытством, сообщила на десять минут раньше, чем положено, что обед подан. Пытаясь разобраться в случившемся, она уловила замешательство смущенных хозяев, заметила, что священник вытирает лоб платком, разевая при этом рот, словно рыба, оказавшаяся на песке, услышала, как леди Гарриэтта в ярости бормочет что-то невнятное, увидела, что в салоне нет Элис и Китти, и заторопилась наверх, где должны были находиться девушки.
К леди Гарриэтте вернулось ее хладнокровие. С обычной приветливой улыбкой она попросила всех к столу. Ей сейчас было не до выяснения причин непонятного безумия дочери. Кроме того, меры должен принимать ее муж, ведь она может только помогать ему. Значит, все будет решаться позднее. После обеда.
Сэр Джон очутился за столом, не представляя, как он до него добрался. Его голова была заполнена туманом, выглядывавшим наружу через его глаза. Элис! Это невозможно! Что там она наговорила про Бога?.. Уйти в монастырь?.. Бедняжка!.. Католичка! Элис католичка?.. Он качал головой. Это просто невозможно!.. Она хочет стать католичкой!..
Место Элис пустовало. Никто не упоминал ее имя. Вернулась Китти с приведенной в порядок прической. Отец взглянул на нее, но не сказал ни слова. Амбруаз вел себя молчаливо, чтобы выразить этим свое сочувствие, но при этом говорил достаточно, чтобы дать понять окружающим, что он не распространяет скандал на всех членов семьи. Леди Августа три раза накладывала себе отварного ягненка с имбирем. Она с трудом удерживала себя от желания разгрызть зубами самую большую кость. Если бы она не сдерживала раздражение, она принялась бы откусывать края от тарелки. Ее сжигало изнутри пламя возмущения, настолько сильное, что она худела на глазах. Внутри ее корсета возникала пустота. Ей казалось, что это кошмарное устройство сейчас перережет ей талию. Она надела его только из-за пастора и гостя брата. В остальные дни, в особенности на охоте, она ничем не стесняла свое тело, поддерживая дисциплину верхней половины с помощью очень тесной рубашки из грубой ткани. Что делать, женщины сконструированы не слишком удачно; природа принесла их в жертву идее продолжения рода. Живот нужен им только для беременности, а груди — чтобы кормить других маленьких самок, таких же глупых, как они, или маленьких самцов, которые превратятся во взрослых тупиц. Они становятся слишком неудобными после того, как их перестают использовать по назначению. Наверное, их следовало бы уничтожать.