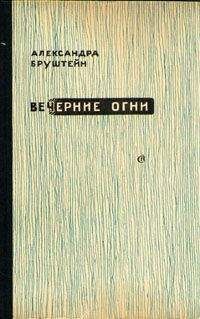– «Звезды, Коленька, далеко: от ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года… Так-то вот, мой родной!» И еще однажды нежный отец написал сыну стихотвореньице:
Дурачок, простачок,
Коленька танцует:
Он надел колпачок —
На коне гарцует.
Также когда из теней выступали контуры столиков, луч набережных огней пролетал из стекла: столики начинали поблескивать инкрустацией. Неужели отец пришел к заключению, будто кровь от крови его – негодяйская кровь? Неужели и сын посмеялся над старостью?
Дурачок, простачок
Коленька танцует:
Он надел колпачок —
На коне гарцует.
Было ли это, – может быть, не было этого… нигде, никогда?
Оба сидели теперь на атласной гостиной кушетке, чтоб бесцельно растягивать незначащие слова: вглядывались друг другу в глаза выжидательно, и каминное красное пламя на обоих дышало теплом; бритый, серый и старый на мигающем пламени рисовался Аполлон Аполлонович и ушами и пиджачком: с точно таким вот лицом на фоне горящей России изобразили его на обложке журнальчика. Протянув мертвую руку и не глядя сыну в глаза, Аполлон Аполлонович спросил упадающим голосом:
– «Часто у тебя, дружочек, бывает… мм… вот тот…»
– «Кто, папаша?»
– «Вот тот, как его… молодой человек…»
– «Молодой человек?»
– «Да, – с черными усиками».
Николай Аполлонович осклабился, заломал вдруг вспотевшие руки…
– «Это тот, которого вы давеча застали в моем кабинете?»
– «Ну да – тот самый…»
– «Александр Иванович Дудкин!.. Нет… Что вы…»
И сказавши «что вы», Николай Аполлонович подумал:
– «Ну, зачем я это «что вы» сказал».
И подумав, прибавил:
– «Так себе, заходит ко мне».
………………………
– «Если… если… это нескромный вопрос, то… кажется…»
– «Что, папаша?»
– «Это он приходил к тебе по… университетским делам?»
…………………..
– «А впрочем… если мой вопрос, так сказать некстати…»
– «Ничего себе… приятный молодой человек: бедный, как видно…»
………………………
– «Он студент?..»
– «Студент».
– «Университета?»
– «Да, университета…»
– «Не технического училища?..»
– «Нет, папаша…»
Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет; Аполлон Аполлонович посмотрел на часы; Аполлон Аполлонович нерешительно встал. Николай Аполлонович мучительно почувствовал свои руки, сконфуженно забегал глазами Аполлон Аполлонович:
– «Да, вот… Много на свете специальных отраслей знания: глубока каждая специальность – ты прав. Знаешь ли, Коленька, я устал».
Аполлон Аполлонович о чем-то пытался спросить потиравшего руки сына… Постоял, посмотрел, да и… не спросил, а потупился: Николай Аполлонович на мгновенье почувствовал стыд.
Механически протянул Аполлон Аполлонович сынку свои пухлые губы: и рука тряхнула… два пальца.
– «Добрый вечер, папаша!»
– «Мое почтенье-с!»
Где-то сбоку зашаркала, зашуршала и вдруг пискнула мышь.
………………………
Скоро дверь сенаторского кабинета открылась: со свечою в руке Аполлон Аполлонович пробежал в одну ни с чем не сравнимую комнату, чтоб предаться… газетному чтению.
………………………
Николай Аполлонович подошел к окну.
Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась невская даль и от этого зелено замерцали беззвучно летящие плоскости, отдавая то там, то здесь искрою золотой; кое-где на воде вспыхивал красненький огонечек и, помигав, отходил в фосфорически простертую муть. За Невою, темнея, вставали громадные здания островов и бросали в туманы блекло светившие очи – бесконечно, беззвучно, мучительно: и казалось, что – плачут. Выше – бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роем, они восходили над невской волной; а с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, там, где днем перекинут Троицкий Мост, протуманились гнезда огромные бриллиантов над разблиставшимся роем кольчатых, световых змей; и свиваясь, и развиваясь, змеи бежали оттуда искристой чередою; и потом, заныряв, поднимались к поверхности звездными струнками.
Николай Аполлонович загляделся на струнки.
………………………
Набережная была пуста. Изредка проходила черная тень полицейского, вычерняясь в светлый туман и опять расплываясь; и вычернялись, и пропадали в тумане там заневские здания; вычернялся и опять в туман уходил Петропавловский шпиц.
Какая-то женская тень давно уже вычернялась в тумане: став у перил, не уходила в туман, но глядела прямо на окна желтого дома. Николай Аполлонович усмехнулся пренеприятной улыбкой: приложив к носу пенсне, он разглядывал тень; Николай Аполлонович с любострастной жестокостью выпучил очи, все глядел на ту тень; радость исказила черты его.
Нет, нет: не – она; но и она, как та тень, хаживала вокруг желтого дома; и он ее видел; в душе его было все непокойное. Она его, без сомненья, любила; но ее ожидала роковая страшная месть.
Черная случайная тень уже расплылась в тумане.
…………………
В глубине темного коридора звякнула металлическая задвижка, в глубине темного коридора промерцал свет: Аполлон Аполлонович со свечою в руке возвращался из одного ни с чем не сравнимого места: серый, мышиный халат, серые бритые щеки и огромные контуры совершенно мертвых ушей отчетливо изваялись издали в пляшущих светочах, убегая за светлый круг в совершенную тьму; из совершенной тьмы Аполлон Аполлонович Аблеухов прошел до дверей кабинета, чтобы кануть опять в совершенную тьму; и место его прохождения из раскрытой двери зияло так мрачно.
………………………
Николай Аполлонович подумал: «Пора».
Николай Аполлонович знал, что сегодня до ночи митинг, что т а шла на митинг (ручательством было сопровождение Варвары Евграфовны: Варвара Евграфовна всех водила на митинги). Николай Аполлонович подумал, что прошло уже два с лишним часа, как он встретил их, по дороге к мрачному зданию; и теперь он подумал: «Пора»…
Митинг
В обширной передней мрачного здания была отчаянная толчея. Толчея несла ангела Пери, колыхая взад и вперед меж чьими-то спиною и грудью; так отчаянно силилась она протянуться к Варваре Евграфовне: но Варвара Евграфовна, не внимая, где-то там, била, билась, толкалась: и пропала вдруг в толчее; вместе с ней и пропала возможность расспросить о письме. Что письмо! В глазах ее еще багрянели закатные пятна; и – там, там: как-то странно повернутый к ней на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, стоял Николай Аполлонович с пренеприятной улыбкой. Нет! Во всяком случае представлял он собой довольно смешную фигуру: казался сутулым и каким-то безруким с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; ей хотелось заплакать от горького оскорбления, будто он ее больно ударил серебряным хлыстиком, тем серебряным хлыстиком, который в зубах, сопя, пронес полосатый, темный бульдог; ей хотелось, чтоб муж, Сергей Сергеич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал бы по этому поводу свое офицерское слово; у нее в глазах мелькнули еще невские облачка, будто мелкие вдавлины перебитого перламутра, меж которых лилось равномерно бирюзовое все.
Но в толпе погасли нежнейшие отсветы, хлынули отовсюду груди, спины и лица, черная темнота – в желтовато-туманную муть.
И все перли да перли субъекты, косматые шапки и барышни: тело перло на тело; на спине расплюснулся нос; грудь теснила головка хорошенькой гимназисточки, а в ногах попискивал второклассник; под давлением сзади в чью-то прическу здесь ушел не в меру протянутый нос и проткнулся булавкой от шляпы, там же грудь грозил проломать прободающий острый угол от локтя; раздеваться не было мочи; стоял в воздухе пар, озаренный свечами (как впоследствии оказалось, вдруг испортилось электричество – электрическая станция, очевидно, стала пошаливать: скоро она расшалилась надолго).
И все перли, все бились: разумеется, Софья Петровна надолго увязла под лестницей, а Варвара Евграфовна выбилась, разумеется, и теперь толкалась, билась и била так высоко где-то на лестнице; вместе с нею выбился какой-то весьма почтенный еврей в барашковой шапке, в очках, с сильной проседью: обернувшись назад, в совершеннейшем ужасе он тянул за полу свое собственное пальто; и не вытянул; и не вытянув, раскричался:
– «Караша публикум; не публикуй, а свинство! рхусское!..»
– «Ну и што же ви, отчево же ви в наша Рхассия?» – раздалось откуда-то снизу.
Это еврей бундист-социалист пререкался с евреем не бундистом, но социалистом.
В зале тело на теле сидело, тело к телу прижалось; и качались тела; волновались и кричали друг другу о том, что и там-то, и там-то, и там-то была забастовка, что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, что они забастуют – здесь, здесь и здесь: забастуют на этом вот месте: и – ни с места!