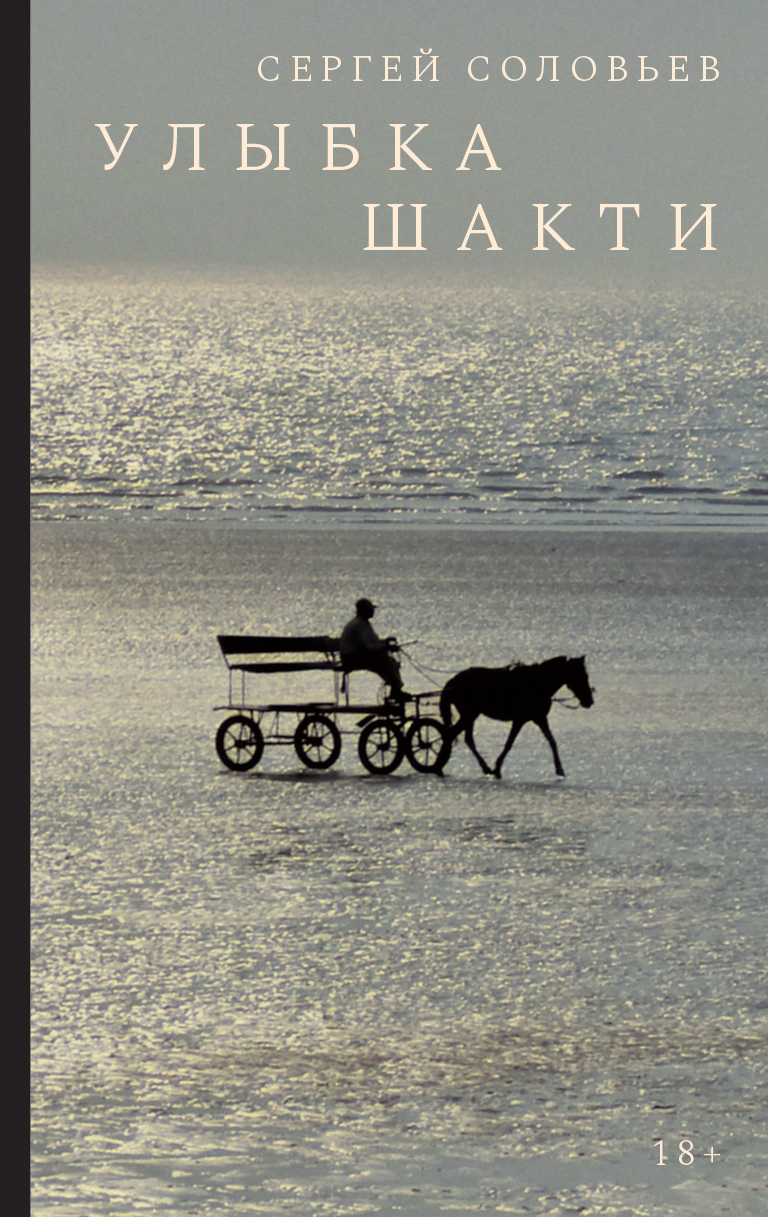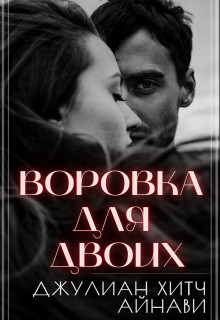порой доносятся протяжные крики. И легионеры перестраиваются под водой. Горит костер, а мы сидим – глаза в глаза – обнаженные и такие юные, как никогда еще. Перебираем пальцами друг друга – лицо, уголок губ, ключица, подвздошная ямочка. Чуть покачиваясь и вытянув руку, как два богомола. Перебираем, боясь коснуться, а там внизу все уже происходит, и это как две жизни – вверху и внизу. Земля и небо. Мы в небе, а на земле уже все идет к концу. Она сидит на мне, полулежащем у костра, и бедра ее раскачиваются вперед-назад, а лица наши и руки – в небе. Вверху – юные мальчик и девочка, у которых это впервые, а внизу – раскачиваются на качелях мужчина и женщина, страстные, мокрые, падающие в «никогда». Костер догорал между верхом и низом, в его стихающих стонах и рваненьком смехе ее, жалобно полевом.
Сидим на скамейке, и я все никак не могу собрать это воедино. Кафку, себя, Таю, прежнюю жизнь, егеря, барку, день этот ясный, тишь, двух синиц, прыгающих по могиле. Она убрала ладонь.
Вернулись в наш пригород к вечеру. Дом был большой, в трех уровнях и выходом на четвертый – с террасой, откуда видны были леса, припавшие к городку. Мрачные, хвойные, набравшие в рот сумрака и какой-то безысходной… нет, не печали, а безжизненности. Даром что в лесу этом жили олени, те самые серны, наверно, на которых охотился егерь Гракх. Там мы гуляли подолгу и молча. Даже когда разговаривали.
Трудные были дни. То близость без кожи, то глухонемая стена. Садились на велосипеды и разъезжались в разные стороны, изматывая себя педалями.
А наутро уже были в лесу, и однажды к нам подошло чудо. Обычно оно не подпускает к себе ближе нескольких десятков шагов. А это медленно шло в нашу сторону, мы присели на тропе и прижались друг к другу. А она, серна, подходила все ближе, пока чуть не коснулась нас, и высоко подняла голову с нежно-длинной шеей, уходящей прямо от нас в небо, так и замерла. Мы все сидели, щека к щеке, запрокинув головы.
В городке этом был замок, в одном из его флигелей – музей кукол и игрушек. Тая любила это, и сама много лет мастерила кукол. Даже в Индии находила особые инструменты для резьбы по дереву и возила их с собой, а когда оказывались рядом с плотниками – корабельными или деревенскими умельцами, подсаживалась к ним, присматриваясь к ремеслу и древесине. У меня это вызывало двойственное чувство. Хорошее – если о творчестве и увлеченности. И не очень – о самих куклах и связи с их потусторонностью.
В музее мы были единственными посетителями, и пока она ходила по комнатам, разглядывая экспонаты, я установил камеру в дальнем зале и сел напротив, чтобы снять видео с рассказом о любви и смерти в этой дивной комнатке с игрушками и платьишком воспитательницы на стене. В предместье Праги, в городке Добрич, за тридевять земель от Индии, о которой шел сюда и думал. Об Индии, возникшей из самосожженья любви. От отчаянья, от обессмысливания всего, что держит в жизни, от невозможности выбора. О женщине, шагнувшей в огонь, о Сати. Ее отец, великий царь Дакши, проводил один из священных ритуалов, на который приглашались самые уважаемые гости, но узнав, что его дочь полюбила Шиву, вознегодовал и отказал им в благословении. По одну сторону сердца Сати – дом, род, по другую – любовь. И невозможность выбора. И шагнула в огонь. Но за мгновенье до этого душа ее в ипостаси Парвати осталась жить, а Сати сгорела в огне. И Шива, придя в отчаянье, обнял ее, Сати, обугленную, и началась в небе неистовая пляска безутешной любви и смерти. С мертвой, обезображенной возлюбленной в его объятьях. Еще немного – и все мирозданье ушло бы в эту воронку отчаянья. И тогда боги взмолились к Вишну, чтобы как-то остановить это. И он, Вишну, своей сударшана-чакрой влет рассек уже тронутое разложеньем тело Сати в объятьях Шивы, и пятьдесят одна часть ее рассеченного тела пала на землю, и там, где каждая из частей касалась земли, всходили сады. Этот цветущий сад и стал Бхаратом, то есть Индией.
Хорошо, что дом большой, не дойти друг до друга, когда чужесть обметывает углы. Тая на верхнем этаже, читает, наверно, или просто лежит, глядит в окно. А я внизу, в большой зале, нашел куклу почти с меня ростом, в красном платье и светлыми густыми волосами, как у Таи. А лицо с удивленной печалью. Усадил за стол, налил ей коньяку, придвинул ее руку к бокалу. Взяла. А я взял маску венецианскую с колокольцами.
Помолчи немного. Либо живешь, либо пишешь. Не на что человеку опереться внутри себя, никого там нет. И Богу не на что – потому и мир. С семьей, домом, любовью, памятью, ромашкой, стрекозой. Чтоб не сорваться. Или свобода. Ни на чем не держащаяся и никаких смыслов не ищущая. И еще какой-то набор неименуемых состояний, который дышит на зеркальце твоей жизни. В близости не выживают. Да, принцесса? И она медленно наклоняется, двигая бокал в мою сторону.
Скрипит лестница, Тая спускается, садимся ужинать, при свечах, втроем.
Нет, не было ужина на троих. Я поднялся наверх, лег рядом. Выключил свет, оставив напольную лампу. Так и лежали под разными одеялами, не зная, как повернуться – спинами ли друг к другу, лицами ли, такими родными и такими чужими, как дотронуться, чем? Протягивая руку и замирая на полпути. Притворяясь спящими. И все же, превозмогая, прижавшись. И – я не помню, что было потом, то есть между – но вот она уже стоит на четвереньках на полу у кровати, спиной ко мне, издавая блеющие звуки, изображая овечку. От неожиданности я растерялся. В этом была и пощечина, и обида, и вызов, и фарс. Она швырнула себя мне как кость, как любовь, как скотоложество. Мягко, игриво, наотмашь. Я чувствовал все растущее возбуждение, постыдное, гадкое, но и справиться с ним не мог. Глядя на нестерпимо желанное, которым она вихляла и вскидывала, изображая эту карикатурную овечку, и блеяла, блеяла, призывая меня. И я не знал, то ли смеяться от этого, то ли выть. И сквозь униженье и стыд, и обиду, и всю эту дурь, разгребая руками их, морщась и закрывая глаза, вдруг ощутил, что я уже в ней, и она все блеяла, блеяла, стихая, плача.
#21. Панхаликаджи
Ждали гостей. Продумал маршрут, чтобы показать им нетуристическую Индию, которую любил и знал. Долго готовились. Поскольку предполагал этот проект ежегодным. Обустроили с Таей кампус во дворе нашего дома в Харнай, у самой кромки океана. Купили столы, стулья, посуду, и бесконечно что-то везли из города – вплоть до туалетной бумаги и разных мелочей, привычных для людей, особенно тех, кто окажется впервые в Индии, да еще и в таком отъявленно нетуристическом краю. Добыл газовый баллон, что оказалось непросто, писал письма, ездил в город на приемы. В единственной деревенской гостинице благоустраивал номера – стены красили, постельное белье закупали, чинили сантехнику. Даже горячую воду в один из номеров провел – для самых нежных. Хотя вода хорошо прогревается солнцем и во второй половине дня уже теплая. Заодно и у себя решили поставить электрический преобразователь холодной воды в горячую. Две недели сантехник, живший в нашей деревне, шел к нам. День за днем находясь в пути, уже на подходе, вот-вот. Чтобы установить купленный нами прибор. А когда пришел, нам нужно было отлучиться, вернулись через пару часов. Сияя, он сказал, что обнаружил фабричную ошибку в устройстве: нагретая вода шла из душа, а надо, чтобы разделялась на два крана