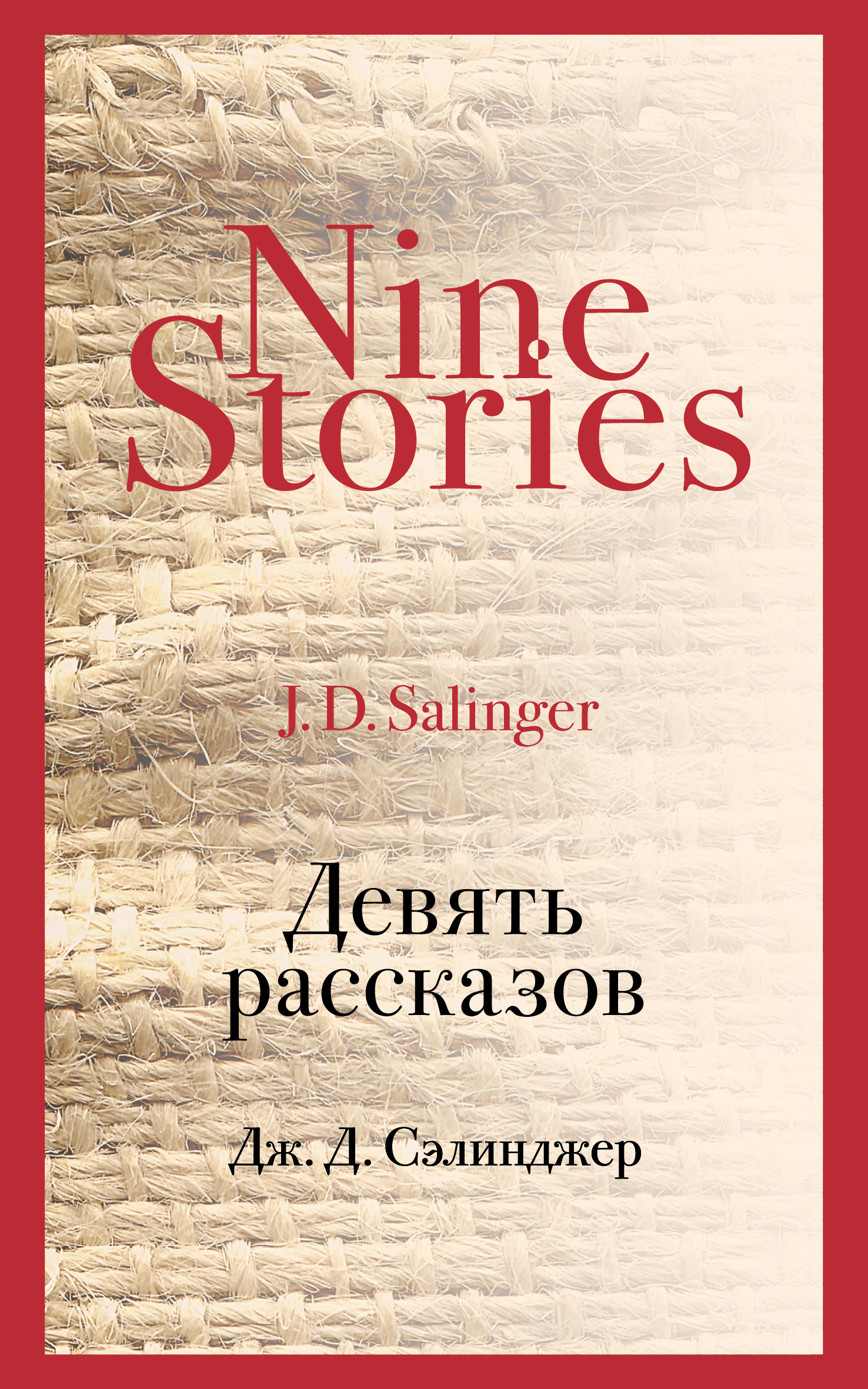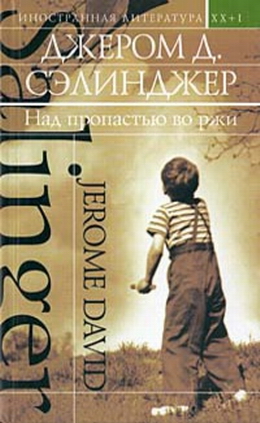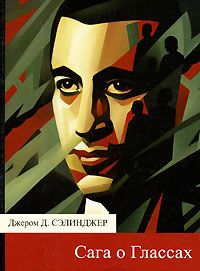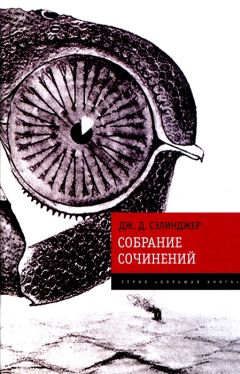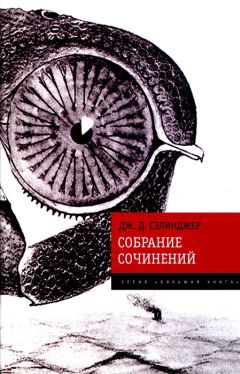периодики, на которые меня угораздило подписаться) рекламу в четверть столбца, размещенную дирекцией Монреальской заочной художественной школы. Всем квалифицированным преподавателям рекомендовалось – более того, рекомендовалось крайне fortement [46] – немедленно обращаться за трудоустройством в новейшую, самую прогрессивную заочную художественную школу в Канаде. Уточнялось, что кандидаты в преподаватели должны свободно владеть как французским, так и английским языками, и только тем из них стоит обращаться, чьи привычки умеренны, а характер тверд. Летняя сессия в Les Amis Des Vieux Maitres [47] официально должна была начаться 10 июня. Образцы работ, говорилось далее, представляющие собой как академические, так и коммерческие области искусства, следует подавать на имя месье И. Ёсёто,
дирэктё
ра, работавшего прежде в Императорской академии изящных искусств Токио.
Тут же, почувствовав себя квалифицированным сверх всякой меры, я вытащил пишущую машинку Бобби «Гермес-бэби» из-под его кровати и написал месье Ёсёто, по-французски, длинное нескромное письмо, пропустив ради этого все мои утренние занятия в художественной школе на Лексингтон-авеню. Мой вступительный абзац раскинулся примерно на три страницы и едва ли не дымился. Я написал, что мне двадцать девять лет, и что я внучатый племянник Оноре Домье [48]. Сказал, что я только покинул свое маленькое поместье на юге Франции, после смерти жены, и перебрался в Америку – на некоторое время, подчеркнул я – с недееспособным родственником. Сказал, что пишу картины с раннего детства, но, следуя совету Пабло Пикассо, одного из старейших и дражайших друзей моих родителей, никогда не выставлялся. Однако, несколько моих картин маслом и акварелей висят сейчас в некоторых из числа изысканнейших – и без всяких нуворишей – домов Парижа, где они снискали значительное l'attention [49] со стороны ряда наиболее серьезных критиков современности. Сказал, что после безвременной и трагической кончины жены от ulcération cancéreuse [50] я искренне полагал, что больше никогда не коснусь кистью холста. Но недавние финансовые трудности вынудили меня изменить свое искреннее résolution. Я сказал, что почту за честь представить образцы своих работ в Les Amis Des Vieux Maitres, как только мне пришлет их мне мой парижский агент, которому я, разумеется, напишу très pressé [51]. И подписался, со всем уважением, именем Жан де Домье-Смит.
На выбор псевдонима я потратил почти столько же времени, сколько и на все письмо.
Я написал письмо на оберточной китайской бумаге. Однако, запечатал в конверт «Ритца». Затем, наклеив спешную марку, найденную в верхнем ящике у Бобби, я отнес письмо в главный почтовый ящик в вестибюле. По пути я подошел к почтовому служащему (он сразу проникся ко мне неприязнью) и уведомил его, чтобы он держал меня в известности о письмах на имя де Домье-Смита. Затем, около двух тридцати, я проскользнул на урок анатомии, начавшийся в час сорок пять, в художественной школе на Сорок восьмой улице. Мои одноклассники показались мне, в кои-то веки, вполне приличной компашкой.
За следующий четыре дня, тратя все свое свободное время, плюс немного не вполне свободного, я нарисовал десяток с лишним образцов того, что считал типичным американским коммерческим искусством. Работая преимущественно акварелью, но иногда, для выпендрежа, и пером, я рисовал людей в вечерних одеждах, выходящих из лимузинов на театральных премьерах – подтянутые, стройные, архи-шикарные парочки, очевидно, никогда никому не причинявшие неудобства из-за безразличия к своим подмышкам – да что там, парочки, у которых, вероятно, отродясь не было подмышек. Я рисовал загорелых молодых здоровяков в белых смокингах, сидящих за белыми столиками вдоль бирюзовых бассейнов, жовиально тостующих друг другу, поднимая коктейли со льдом, намешанные из дешевых, но явно ультрамодных сортов зернового виски. Рисовал краснощеких рекламогеничных деток за завтраком, пышущих здоровьем, без ума от самих себя, протягивающих пустые миски, умильно умоляя о добавке. Рисовал смеющихся пышногрудых девиц, скользящих на аквапланах, без тени заботы на лицах, ведь им ни в коей мере не грозили такие национальные бедствия, как кровоточивые десны, сыпь на лице, секущиеся волосы и проблемы со страховкой на дожитие. Рисовал домохозяек, которые страдали от растрепанных волос, плохой осанки, непослушных детей, безразличных мужей, огрубелых (но элегантных) рук и захламленных (но огромных) кухонь, пока не открывали для себя правильную марку мыльной стружки.
Едва закончив образцы, я отослал их месье Ёсёто вместе с полудюжиной моих нерекламных картин, привезенных с собой из Франции. Кроме того, я приложил к ним весьма, как мне казалось, небрежную, но очень человечную записку о том, как я – буквально в двух словах – без всякой помощи, терпя всевозможные лишения в лучших романтических традициях, достиг холодных, белых и безлюдных вершин своей профессии.
Следующие несколько дней прошли в напряженном ожидании, но не успела кончиться неделя, как пришло письмо от месье Ёсёто, подтверждающее, что я принят на должность преподавателя в Les Amis Des Vieux Maitres. Письмо было написано по-английски, хотя я писал ему по-французски. (Позже я выясню, что месье Ёсёто, владевший французским, но не английским, поручил, по какой-то причине, написание письма мадам Ёсёто, владевшей английским на базовом уровне.) Месье Ёсёто говорил, что летняя сессия, вероятно, будет самой загруженной сессией за весь год и начнется 24 июня. Таким образом, отмечал он, у меня имелось почти пять недель, чтобы уладить свои дела. Он выражал мне безграничное сочувствие в связи с моими недавними эмоциональными и финансовыми потрясениями. И надеялся, что я смогу явиться в Les Amis Des Vieux Maitres в воскресенье, 23 июня, чтобы узнать о своих обязанностях и завести «крепкую дружбу» с другими преподавателями (кои, как я выясню позже, числом два, являли собой месье и мадам Ёсёто). Он глубоко сожалел, что устав школы не позволяет оплачивать дорожные расходы новым преподавателям. Начальная зарплата составляла двадцать восемь долларов в неделю, что было, как сознавал месье Ёсёто, не такой уж большой суммой, но поскольку к ней прилагался кров и питательная пища, и поскольку во мне ощущался дух подлинного призвания, он надеялся, что такое положение вещей меня не отвратит. Моей телеграммы о формальном согласии он ожидал с нетерпением, а моего прибытия – с приятственным настроем [Для редактора: здесь чувствуется необычный подбор слов – нужно это передать], оставаясь моим искренним новым другом и нанимателем, И. Ёсёто, бывшим преподавателем Императорской академии изящных искусств Токио.
Не прошло и пяти минут, как я отправил телеграмму о формальном согласии. Как ни странно, но из-за возбуждения, а может, от чувства вины, что я телеграфирую с телефона Бобби, я намеренно налег на свою прозу и урезал послание до десяти слов.
Тем вечером, встретившись,