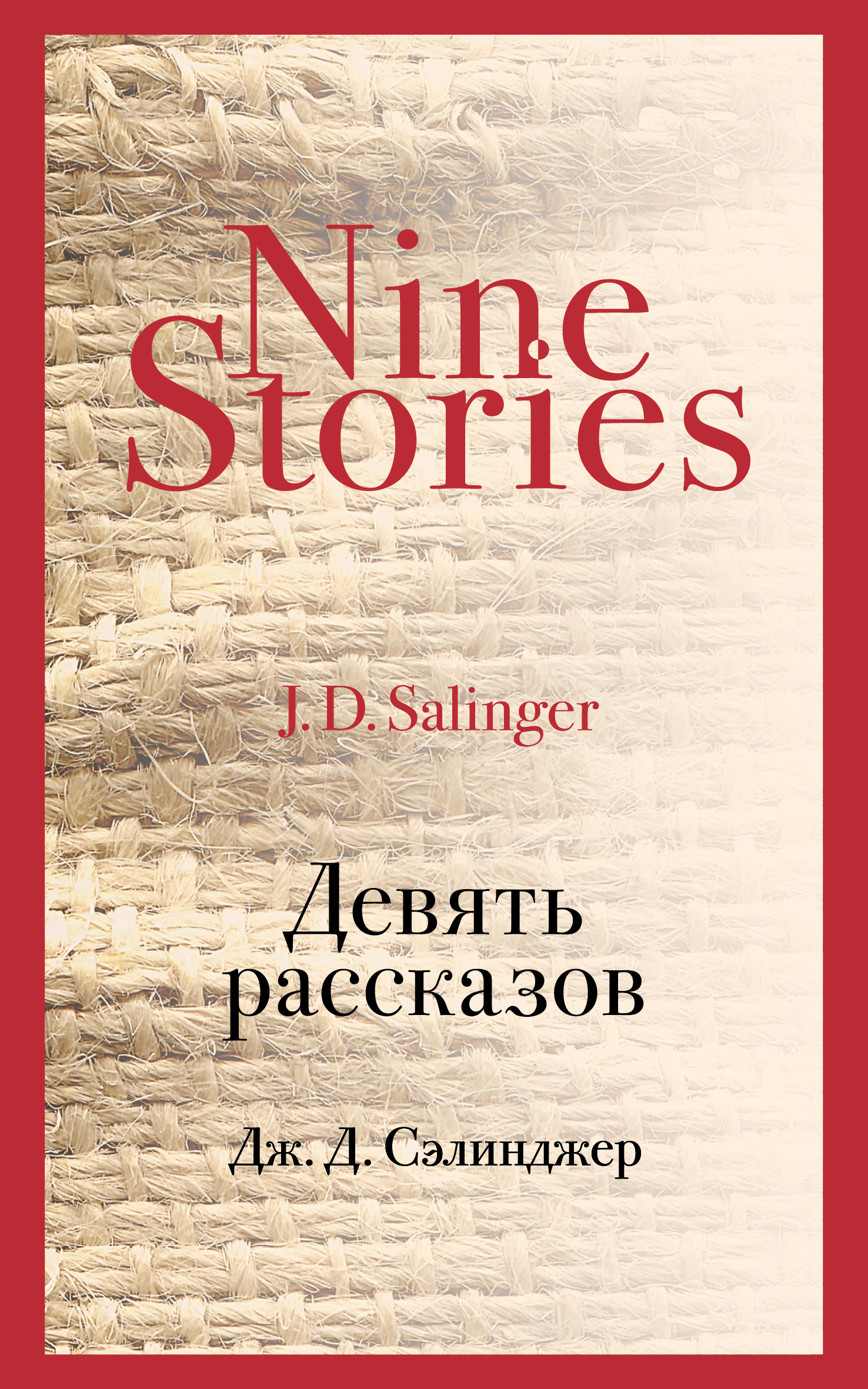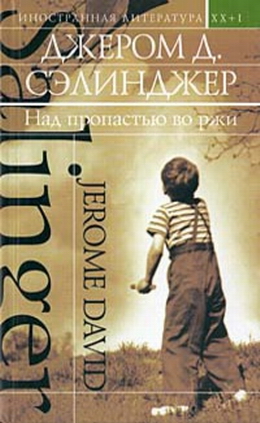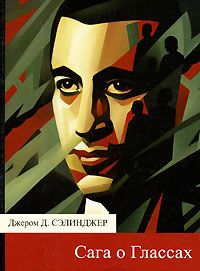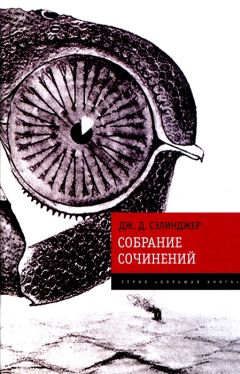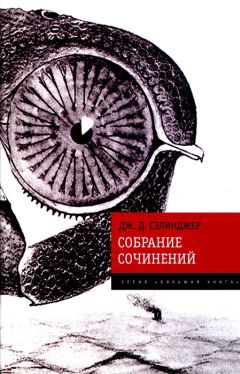как обычно, с Бобби за обедом в семь часов в Овальном зале, я был недоволен, увидев, что он привел гостью. Я ни словом не обмолвился о недавних чрезвычайных событиях, а мне до смерти хотелось поведать ему эту последнюю новость – огорошить его – без посторонних. Гостья была очень привлекательной молодой леди, получившей развод всего за несколько месяцев до того, и Бобби с ней часто встречался, так что и мне случалось видеться с ней. Она была, в целом, очаровательной особой, а ее навязчивое желание подружиться со мной, эти мягкие попытки убедить меня снять доспехи или хотя бы шлем я трактовал как завуалированное приглашение к ней в постель, когда я соизволю – то есть, как только Бобби, явно слишком старый для нее, ей наскучит. Весь обед я держался с враждебной лаконичностью. Наконец, когда мы потягивали кофе, я вкратце изложил свои новые планы на лето. Выслушав меня, Бобби задал мне пару весьма дельных вопросов. Я ответил на них небрежно, в двух словах, чувствуя себя безукоризненным кронпринцем положения.
– О, это так волнительно! – сказала гостья Бобби и стала ждать с игривым видом, когда я передам ей под столом свой монреальский адрес.
– Я думал, ты поедешь со мной на Род-Айленд, – сказал Бобби.
– О, дорогой, не будь таким ужасным занудой, – сказала ему миссис Икс.
– Я не зануда, но мне бы хотелось узнать об этом побольше, – сказал Бобби. Но мне показалось, что я так и вижу по его манере, как он мысленно обменивает два места в купе на одну нижнюю койку в поезде до Род-Айленда.
– Кажется, это самая милая, самая лестная вещь, какую я только слышала в жизни, – сказала мне тепло миссис Икс. И глаза ее порочно сверкнули.
В то воскресенье, когда я сошел на платформу Уиндзор-стейшн в Монреале, на мне был двубортный бежевый габардиновый костюм (о котором я был чертовски высокого мнения), темно-синяя фланелевая рубашка, солидный желтый хлопковый галстук, коричнево-белые туфли, шляпа-панама (принадлежавшая Бобби и слишком тесная для меня) и трехнедельные каштановые усы. Mеня встречал месье Ёсёто. Это был маленький человечек, не выше пяти футов, одетый в довольно грязный льняной костюм, черные туфли и черную фетровую шляпу с загнутыми кверху полями. Он не улыбнулся и, насколько я помню, ничего не сказал мне, когда мы пожали руки. Выражение его лица – определение для него подсказали мне французские издания книжек Сакса Ромера о Фу Манчжу [52] – было inscrutable [53]. Я почему-то улыбался до ушей. Я не только не мог убрать улыбку, но даже убавить.
Путь в несколько миль от Уиндзор-стейшн до школы мы проделали на автобусе. Сомневаюсь, чтобы месье Ёсёто произнес хотя бы пять слов за всю дорогу. Вопреки его молчаливости, а может, вследствие ее, я говорил без умолку, развязно закинув ногу на ногу, то и дело вытирая потную ладонь о носок в районе голени. Я не только безудержно повторял все прежнее вранье – о моем родстве с Домье, о покойной жене, о маленьком поместье на юге Франции, – но и расцвечивал его подробностями. В какой-то момент, как бы желая преодолеть подвластность этим болезненным воспоминаниям (они, и в самом деле, начали причинять боль), я переключился на старейшего и дражайшего друга моих родителей, Пабло Пикассо. Le pauvre Picasso [54], как я его называл. (Следует отметить, что Пикассо я выбрал потому, что считал его наиболее известным в Америке французским художником. Канаду я, недолго думая, присовокупил к Америке.) К сведению месье Ёсёто я вспоминал, подбавляя в голос сострадания к падшему великану, сколько раз я ему говорил: "Maître Picasso, où allez vous [55]?" и как, в ответ на этот сакраментальный вопрос, мэтр каждый раз медленной тяжелой поступью проходил по студии, чтобы взглянуть на маленькую репродукцию "Les Saltimbanques [56]" и свою былую славу, от которой мало что осталось. Беда с Пикассо, объяснил я месье Ёсёто, когда мы выходили из автобуса, была в том, что он никого не слушал, даже ближайших друзей.
В 1939 году школа Les Amis Des Vieux Maitres занимала второй этаж маленького, довольно неприглядного трехэтажного здания – откровенно говоря, это был доходный дом – в Вердене, то есть наименее привлекательной части Монреаля. На первом этаже располагалась ортопедическая мастерская. Что касалось Les Amis Des Vieux Maitres, то она представляла собой одну большую комнату и мизерную незапиравшуюся уборную. Тем не менее, едва я вошел, это место показалось мне на удивление презентабельным. И на то имелась веская причина. Стены «преподавательской» были завешаны картинами в рамах – сплошь акварелями – кисти месье Ёсёто. Мне до сих пор случается грезить об одном белом гусе, летящем по бледному-пребледному голубому небу, причем – и это один из самых поразительных примеров художественного мастерства, какой я когда-либо видел – небесная голубизна, точнее, самый дух небесной голубизны отливала в оперении птицы. Картина висела прямо над столом мадам Ёсёто. Как раз эта картина – и еще одна-две подобного уровня – и задавала облик комнаты.
Когда мы с месье Ёсёто вошли в преподавательскую, мадам Ёсёто в прекрасном черно-вишневом шелковом кимоно подметала пол короткой шваброй. Мадам была седоволосой и выше мужа на целую голову, а черты ее лица походили больше на малайские, нежели японские. Перестав подметать, она подошла к нам, и месье Ёсёто коротко нас познакомил. Она показалась мне столь же непроницаемой, как и месье Ёсёто, если не более. Затем месье Ёсёто предложил мне показать мою комнату, которую, как он объяснил (по-французски), недавно занимал его сын, уехавший в Британскую Колумбию работать на ферме. (После того, как он так долго молчал в автобусе, я слушал его с восторженным видом и не мог наслушаться.) Он стал извиняться за то, что в комнате сына нет стульев – только напольные подушки, – но я тут же заверил его, что для меня это дар небес. (Да что там, я даже, кажется, сказал, что ненавижу стулья. Я так разнервничался, что скажи он мне, что комната сына залита круглые сутки по колено, я бы наверно не сдержал восторженного возгласа. Наверно я бы сказал ему, что у меня редкое заболевание ступней, вынуждающее меня держать ноги влажными каждый день по восемь часов.) И он повел меня по скрипучей деревянной лестнице в мою комнату. По пути я сказал ему с нажимом, что изучаю буддизм. Позже я выяснил, что чета Ёсёто исповедовала пресвитерианство [57].
Ближе к ночи, когда я лежал в постели