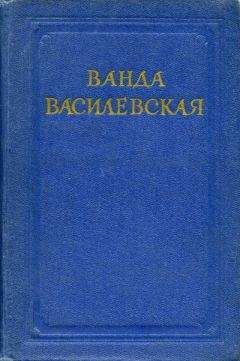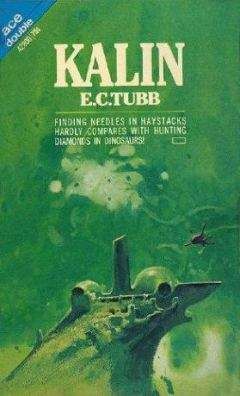— Может, и так.
— Да, эти, из украинских деревень, не такой быстрый народ, как у нас.
— А он все равно их взял, только бы здешним не дать заработать!
— Почем же он платит им?
— По девяносто грошей в день. И по три кило картошки.
— На десять грошей меньше, чем в прошлом году, платил.
— По девяносто грошей в день косцу!
— Оно бы и девяносто грошей пригодилось… Не один из нас этой уборки, как спасения какого, дожидался.
— Так, вы говорите, никого не брали? И из Мацькова не брали?
— Из шляхетских, может, которого и взяли, а больше — ни-ни, ни одного!
Они покачивали головами и поглядывали вдаль, в сторону лесов, за которыми стоял Остшень.
— И как только ему людские слезы спокойно спать не мешают!
— А вы были у него? Знаете? Может, он и не спит.
— Изменился он сильно за последнее время.
— А эта его рожа-то все шире становится, даже смотреть страшно.
— И сам из года в год все толще… Дворовые сказывали, что девять пудов весит.
— Э, мало ли что болтают!
— Как так, болтают? Вы что, не видели? Как взгромоздится в седло, так лошадь аж закряхтит! И всегда на одной кобыле ездит, потому другой лошади и не поднять его!
— Не диво, на людском горе жиреет.
— Ой, жиреет, жиреет, пока не перезреет…
— Людоким горем нетрудно и подавиться.
— Э, года за годами идут, а ему все ничего.
— Дети-то у него все перевелись.
— И что с того? А он как драл с людей шкуру, так и дерет.
— Боже милостивый, боже милостивый!
Молодежь сходилась по вечерам у Плыцяка. Тут им лучше всего говорилось. Старый Плыцяк сидел за столом, дрожащими пальцами перелистывал пожелтевшие, истрепанные страницы маленькой книжечки. Медленно, старательно выговаривая слова, читал, поднося книжку к глазам. На кончике носа едва держались оправленные в проволоку, связанные нитками очки.
— «Там, где нет справедливости, где один владеет всем, а другой ничем, где один просвещен, а другой живет во тьме, там должны быть и преступления. Нищета, темнота и голод сами вложат в руки человека топор, тлеющую головню и меч».
В избе было тихо. По стенам ползали неверные тени. Свет и тени попеременно падали на лица заслушавшихся людей. Издалека, из старых времен, отдаленные почти на столетие, понятно звучали слова, были близкими и, казалось, для них писанными.
Не думал Шимон Конарский[3] почти век назад, что его книга, пройдя через десятки рук, попадет когда-нибудь на побережье Буга и будет читаться в крестьянской избе, нисколько не утратив своей остроты. Словно и не миновал век — и крестьянские глаза в Калинах видели то же, что видел он на своем скитальческом пути заговорщика, проходя по польской земле без малого сто лет назад.
— «Топор, тлеющую головню и меч…»
Плыцяк поднял от желтых страниц покрасневшие, выцветшие глаза.
— Так тут сказано… Иначе и быть не может. Потечет еще кровь по этой земле, погуляет по ней красный петух.
В избе послышался ропот.
— Да разве он один? Есть и другие. Из Грабовки господа, из Подолениц, из Вилькова!
— Мало ли их! Ведь не у нас одних…
— Столько земли! Ведь у него одного больше, чем у всех нас тут вместе — в Калинах, Бжегах, Мацькове и кто его знает, в скольких еще деревнях.
— Люди на двух, на трех моргах задыхаются, а он все себе одному!
— Кабы эту землю разделить, господи боже! Все бы могли прокормиться.
— А откуда б ты деньги на выкуп взял? Так было бы, как у этих по парцелляциям… Двадцать пять моргов — а что толку? Такая же нищета гложет, как и нас, а то и хуже.
— Да за что выкуп-то? Забрать, и все!
— Как же это так — забрать?
Плыцяк поднял дрожащую руку.
— Откуда у крестьянина земля? Он ее заработал своим потом, кровавыми слезами полил. С малых лет, едва из колыбели, он уже на работу идет. А если и от отца унаследовал, так и эта земля тяжко заработанная, сто раз окупленная. А он? Разве он работал на этой земле? Сгибался над плугом? Стоял по колени в коде и в навозе? Впрягался в работу так, что кровь из-под ногтей брызгала? Нет, он землю от родителей получил. А те и сами во дворце сидели, проводили жизнь в веселье. Видел их когда кто в поле, в лесу, у воды? Разве только посмотреть ходили, потешиться, — сколько, мол, у меня всего. А ведь откуда-то оно взялось, это богатство! Мужик его наработал, кнутами мужика секли, в подземельях мучили, чтобы больше работал, чтобы до последнего издыхания трудился на барщине.
— Верно! За дворцом, в саду, есть там такие развалины, садовник сказывал, что это прежние подземелья. Говорят, будто под землей и теперь еще призраки бродят.
— Кнутами баре мужика секли, в подземельях гноили. Из крестьянской крови, из крестьянского пота их богатство. У графа и леса, и поля, и водочные заводы, и лесопилки и мельницы — все на крестьянской крови держится, все из крестьянского пота выросло! Все это — Мацьков, Бжеги, Калины, — все в крепостные времена ихнее было. Все на него работали. И по всей справедливости теперь земля мужикам полагается. За что ему выкуп платить? За крестьянскую смерть? За крестьянскую кровь? За крестьянское горе?
— Верно Плыцяк говорит.
— Есть у старика голова!
— А вот я вам газетку почитаю, как раз то же и пишут, — вмешался Антек Стасяк.
— Читай, читай!
Ацтек читал иначе, чем Плыцяк. Скороговоркой, глотая слова, — очень уж торопился.
— Глядите, умно пишут!
— Наверно, ученый писал, не то что ты, темная башка.
— Э, ученые тоже разные бывают.
— Одни стоят за простых людей, а другие так бы нас и разорвали.
— Тише. Не мешайте.
Плыцяк беспокойно качнул лампу.
— Лодзька, есть еще сколько-нибудь керосину?
— Нету. Завтра надо сбегать к Стефановичу. Он уже меня раз спрашивал, что это у нас так много керосину выходит, — с упреком сказала невестка.
— Ну, эти несколько грошей нас не спасут, — спокойно сказал старик. — А почитать всегда полезно.
— Поздно уже, пора и по домам.
Они поговорили еще, обсуждая на все лады прочитанное в газетке, и, наконец, стали расходиться.
— Не все сразу, ребята, по одному, по одному, — предупреждал один.
— Э, не будь таким боязливым. Что это, уж и посидеть у соседа нельзя, что ли?
— Конечно, можно. А только зачем тебе, чтобы в деревне разговоры пошли?
— И так идут. Небось Агата уже бегала к ксендзу докладывать.
— Это которая, терциарка?[4]
— Ну, а кто же! Страсть, как старается заслужить царствие небесное.
— Ну, и на здоровье, — серьезно сказал Плыцяк. — Только надо стараться и о царствии божьем на земле.
Дверь то и дело скрипела, распахиваясь в звездную ночь.
Сладко благоухала белена. Плыцяк еще долго стоял на пороге. Его седая голова тряслась.
— Как тихо, боже милостивый. Звезды светят. Кабы кто сейчас шел по деревне, и в голову бы ему не пришло, сколько здесь горя, мучений, болезней всяких и всего.
Откуда-то с высоты опустился желтый лист и тихо упал на порог.
— Липы сохнут, как осенью, а до осени еще куда! Как же будет в поле расти, когда и деревья почти пропадают?
На дороге послышались шаги.
— Идет кто-то, — заметила невестка.
Плыцяк силился разглядеть в потемках. Блеснули пуговицы, заскрипели голенища высоких сапог, и в кругу слабого света, падающего из открытых дверей, появился комендант полицейского участка из Ржепов.
— Добрый вечер, пан Плыцяк.
— Добрый вечер. Что это так поздно?
— Да так уж пришлось, по службе — в Бжегах был.
— Так теперь уж, наверно, не придется дома ночевать?
— Да нет. У старосты переночую.
Вдруг полицейский словно что-то припомнил.
— Ах да, пан Плыцяк, ведь у меня и к вам дельце есть!
— Ко мне? Тогда проходите сюда. — Плыцяк шире раскрыл дверь и пропустил его вперед. — Пожалуйте в избу.
Комендант вошел и, словно мимоходом оглядывая избу, сел на лавку, на которой только что было полно парней. Плыцяк ждал.
— Говорят, Плыцяк, будто у вас народ сходится?
— А чего ж людям не сходиться? Соседей много. Есть у кого время, так и зайдет навестить старика, поговорить… У меня-то ноги уж плохо служат, мало хожу по деревне, так приходится дома народ принимать.
— Вот-вот, об этих разговорах и речь.
— А что, новый указ вышел, разговаривать не разрешается?
Комендант испытующе глянул в бесцветные, старческие глаза.
— Смотря о чем, Плыцяк, смотря о чем! Разные бывают разговоры. За некоторые и не похвалят.
— Я уж там за похвалами и не гонюсь.
— А что ж это к вам, старому человеку, в первую голову молодые ребята ходят? Молодежь ведь обычно любит с молодыми время проводить?
Над столом, над едва тлеющей лампочкой в упор скрестились два взгляда. Острый, жесткий взгляд молодых глаз коменданта и затуманенный, будто сонный — Плыцяка.