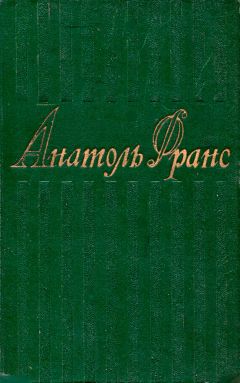Но когда в 1849 году он приехал в Калькутту, то узнал, что торговое общество «Эндрью Эварт, Лиссалисали и К°» распалось после смерти Эварта, — он умер от холеры в июне 1848 года, оставив вдову и четырехлетнего сына, нареченного Сэмюэлом. Миссис Эварт очутилась без средств и покинула вместе с ребенком город. Хэвиленд долго не мог напасть на ее след. Узнав, что Лиссалисали поселился на острове Бурбон, он отправился туда и разыскал брамина, который теперь давал уроки английского языка детям губернатора колонии. Лиссалисали сообщил Хэвиленду, что вдова Эндрью Эварта заехала с ребенком к своему брату, г-ну Джонсону, бывшему офицеру войск его величества.
Вот и все, что удалось узнать г-ну Хэвиленду; теперь Сэмюэлу Эварту уже было двадцать семь лет; еженедельно в «Таймсе» печаталось объявление, в котором сообщалось, что эсквайр Мартин Хэвиленд, проживающий в Париже, просит Сэмюэла Эварта сообщить о своем местожительстве, — однако Эварт не подавал признаков жизни.
Уже двадцать пять лет Хэвиленд изо дня в день вел поиски с одинаковым рвением, одинаково неутомимо. Это стало делом его жизни; каждое утро он брался за него, как столяр берется за рубанок. Все нити были в руках Грульта, и он ловко их распутывал.
Особенно полезен он был, когда приходилось выпроваживать какого-нибудь лже-Сэмюэла Эварта, ибо к Хэвиленду уже являлось множество проходимцев под видом сыновей и наследников Эндрью Эварта.
Осенью 1871 года здоровье Хэвиленда пошатнулось; у него начались головокружения и бессонница. Однажды (дело было в начале зимы, когда они жили в Ницце, в вилле «Оливковая роща») Елена, читавшая какой-то роман в гостиной, взглянула на входившего мужа и испуганно крикнула:
— Что у вас с глазами? Посмотрите в зеркало на свои глаза!
Голубые глаза Хэвиленда казались черными. Губы его подергивались, и он бормотал в каком-то исступлении:
— Сэм… Сэм Эварт отыщется.
К концу зимы они вернулись в Париж. Двор особняка был завален чемоданами, сундуками, свертками, и среди них бестолково суетилась супруга Грульта; на ней была кофта из пестренького ситца, да и сама она словно была сделана из этой мнущейся ткани. Толстая и суетливая женщина смахивала на узел тряпья, подталкиваемый невидимой силой. Лицо ее всегда было покрыто испариной, поэтому она то и дело вытирала его своей дряблой рукой. Г-жа Грульт с опаской перебирала картонки под бдительным надзором горничной и теряла голову от разноречивых распоряжений, которые ей надменно отдавала, жеманясь перед конюхами, эта завитая особа в чепце с лентами, кокетливо откинутыми за спину.
Елена бросила на кресло дорожную шубку, которую Хэвиленд сейчас же аккуратно сложил. Она рассердилась и начала выстукивать на оконном стекле турецкий марш. В пасмурном небе чуть поблескивал купол Дворца Инвалидов. Все вокруг было унылым, серым. Елене стало тоскливо, и она ушла к себе в комнату.
Грульт доложил о приходе г-на Феллера де Сизака. Делец поспешил явиться, чтобы приветствовать зятя и обнять дочь. Сюртук его был наглухо застегнут, цилиндр помят, — этот головной убор уже нельзя было просто отутюжить, а приходилось отпаривать. В тот день Феллер буквально полил его водой, чтобы пригладить непокорные ворсинки и еще разок придать ему лоск. Каблуки у Феллера были до того скошены, сбиты, что, стараясь удержать равновесие, он ходил переваливаясь, словно селезень.
Хэвиленд не подал ему руки. Феллер из кожи лез, чтобы вовлечь в разговор своего «дражайшего островитянина, своего высокочтимого зятя». Металлические переливы его голоса напоминали удары огнива по крупному кремню. Но ни искорки не вспыхнуло в Хэвиленде. Поверенный, раздумывая о том, какой угрюмый нрав у проклятущего англичанина, наперекор всему старался его расшевелить. А зять и не думал спрашивать, как идут у него дела, поэтому Феллер начал сам:
— Кстати! Не скрою от вас, трудные у меня были времена. Я, что называется, пережил кризис.
Да он и не мог скрыть от Хэвиленда свои затруднения, ибо четыре года донимал его просьбами о деньгах. В дни осады, посылая зятю письма с воздушным шаром, с почтовым голубем, помещая объявления в «Дейли телеграф», он просил выслать ему чек на парижского банкира. На первую просьбу Хэвиленд откликнулся, на остальные просто не отвечал. И вот г-н Феллер явился к Чарльзу Симпсону — банкиру, проживавшему на улице Победы, воспользовался именем «любимого и многоуважаемого зятя» и занял некоторую сумму, прибегнув таким образом к уловке, которую Хэвиленд счел непорядочной и недопустимой.
Итак, Феллер не скрывал своих невзгод. Но теперь, по его словам, он снова встал на ноги: впереди у него прибыльнейшее дело.
Сказав об этом, он глубоко вздохнул и подбоченился, приняв свою обычную позу.
— Речь идет, — сказал он, вперив в карниз наполеоновский взор, — речь идет об одном деле, значение коего, поистине полезное, от вас не укроется. Речь идет о «Рабочем банке», основанном на совершенно новых началах. В наш век, когда исключительно быстрое развитие трудящихся классов ставит в тупик финансиста и составляет, если можно так выразиться, постоянную угрозу для общества в целом, возникла необходимость в учреждении, которое внушило бы пролетариату чувство бережливости. Теперь мы свободны от тех преград, которые прежнее правительство не преминуло бы поставить перед предприятием такого рода, мы должны действовать, и…
В этот миг г-н Феллер де Сизак увидел свой жалкий цилиндр, предательски освещенный одним-единственным солнечным лучом, проникшим в гостиную и, может быть, одним-единственным лучом, проникшим в особняк. Он добавил с силой:
— И действовать безотлагательно.
Затем он спросил, не угодно ли г-ну Хэвиленду ознакомиться с уставом «Рабочего банка». Хэвиленд ответил:
— Нет!
Господину Феллеру де Сизаку очень хотелось, чтобы Хэвиленд получил общее представление о том, как был учрежден «Рабочий банк». Ведь он рассчитывал, что его высокочтимый зять даст ценнейшие советы. Да и почему бы в конце концов не сознаться? Дело достойно внимания крупнейших капиталистов, и его просто замучила бы совесть, не предложи он г-ну Хэвиленду воспользоваться теми благами, которые предназначаются для первых акционеров «Рабочего банка».
Он умолк. Г-н Хэвиленд позвонил, вошел хромой слуга.
— Грульт, уберите сигару, — приказал Хэвиленд.
Грошовая изжеванная сигара потухла на краю столика, куда ее положил Феллер де Сизак, войдя в гостиную.
Затем Хэвиленд в упор посмотрел на Феллера и сказал:
— Советов я вам не дам, ибо вы их не послушаетесь. Денег я вам не дам, ибо вы их не вернете. Вы не джентльмен, нет! Прошу больше ко мне не приходить, да! Видеться с госпожой Хэвиленд можете, когда вам будет угодно, да!
И он вышел.
Господин Феллер, ошеломленный, потрясенный этим ударом, почувствовал, что он — конченый человек, но все же у него хватило мужества, чтобы весело обнять дочь и пошутить с нею. Она ластилась к отцу, как девочка. В характере этого человека было что-то благодушное, родственное ленивой натуре Елены, а главное, он был ее отцом. Женским своим взглядом она сразу подметила, как обтрепались обшлага его рубашки, каким белесым стал воротник сюртука, в каком виде цилиндр, — словом, как убого одет отец. Она начала подозревать истину. Но бедняга Феллер, увидев, что она встревожилась, улыбнулся, начал уверять, будто всецело ушел в дела, будто они идут великолепнейшим образом. Он обвинил себя в том, что, старея, опускается. Спросил, счастлива ли она. Посоветовал крепко любить мужа. Потом горячо обнял ее, а когда сходил по лестнице, так тяжело ступал, словно постарел лет на десять; казалось, он стал ниже ростом; глаза его потухли, подбородок отвис, а голова в помятом цилиндре поникла.
Елена заметила, что муж поссорился с ее отцом. Она почувствовала неприязнь к мужу, хотя и догадалась о причинах разрыва. Они послужили поводом для горьких намеков и как будто беспричинных, необъяснимых ссор.
У Елены была порывистая, увлекающаяся натура, поэтому она вдруг искренне привязалась к племяннику Хэвиленда, Жоржу, и расточала свою неистраченную нежность этому белокурому хрупкому подростку, прехорошенькому, капризному и ласковому. Жорж Хэвиленд родился в Авранше и воспитывался в небольшой английской колонии, но в правилах католической религии; он рано осиротел. Дядя, назначенный его опекуном, поместил его приходящим учеником в коллеж Станислава[46]. Елена, из самых лучших чувств, совсем избаловала Жоржа. Она сама причесывала его на двадцать ладов, чтобы посмотреть, как будет красивее. По вечерам она отрывала его от уроков и водила на концерт или в театр.
Но все это не заполняло ее существования; она скучала, часто плакала. Она мечтала жить где-нибудь в мансарде, с отцом.