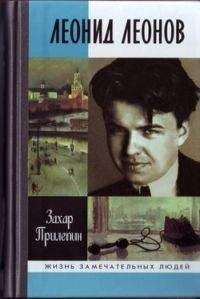— Хлебнешь, родной: не писал бы про тебя, каб не так… сперва на пробу, а там и губ не оторвать. Хмельней опия штука!.. с пары глотков каким-то иррациональным косвенным зреньем начинаешь нримечать странное, во всю даль прогресса, смещенье главных планов, и вдруг поверх сущего, на плоской холстине действительности проступают плывучие, в самых угрожающих сочетаниях и на грани обобщительного безумия, знаки и числа, мерцающие пейзажи и события, по счастью, не доступные большинству и справедливо отвергаемые иными философами, потому что это всегда мешало… как бы выразиться поточней?
— Кто, кому помешал? — угрюмо воспользовался его заминкой Векшин.
— Ну… мешало им посредством благоразумного упрощенья, так сказать через нивелировку структурных различий между пяткой и капризной тканью мозговой, добиться высшего блага для человечества — избавления от наиболее опасного из всех разделительных зол, от интеллектуального неравенства. И если не спалит тебе внутренность смесь моя, то когда-нибудь воротимся еще к затронутой темке… не я, так тот заключительный Фирсов, который через сотню лет станет подводить итоги. Он-то и запрет нас с тобой, Дмитрий Векшин, навечно в писчую бумагу для истории… — Он кончил чуть не в одышке и принялся машинально протирать расцарапанные морозцем стекла очков. — Как, понял хоть крупицу, ворюга? В его обращенье, кроме дружбы и чуть высокомерной власти, прозвучала нетерпеливая, затаившаяся надежда.
— Понял… лишь слова отдельные, — признался Векшин. — Загнул ты мне притчу, сочинитель. Выходит, по-твоему, нельзя в завтрашнее без вчерашнего войти… так, что ли?
— Почему же, можно, все можно, но во избежанье худшего… стоит ли?
Векшин глядел на него с тревожным беспокойством человека, разбуженного прикосновеньем незримых рук.
— Навел туману, сочинитель: не то драться с тобой, не то кланяться. Не хвала и не обида, а может, и ненависть одна на поверку. Чем я тебя задел, обидел, рассердил?.. не боязно тебе со мною так?
— А чем, чем ты меня обидеть можешь, когда тебя даже и нет пока, раз я тебя пока не написал!.. — чему-то разъярился Фирсов. — Ножом, пожалуй… так во мне и останешься тогда. Ладно, все: ступай в люди, ищи, томись, воскресай и разбивайся снова! — еще непонятней рассмеялся он прямо в лицо своему плачевному герою и отцепил от плеча его руку. — Ну-ка, пусти теперь, пальто порвешь… да и пора нам.
— Досказывай, куда поведешь меня теперь… — охваченный томлением догадок, спросил Векшин.
Тот не ответил: и без того клял себя, что разболтался не в меру, да еще на морозе, с риском голос потерять. Все в ту минуту необыкновенно обостряло фирсовскую восприимчивость: и острота оборванного в разбеге разговорца, и сделанный им вызов неизвестности, самая безлюдность заваленной снегом улицы, полной еще никем не прочитанных, никому не запроданных тайн. При стесненных фирсовских обстоятельствах нельзя было пренебрегать столь хлебными мелочами. Он и на встречу с Агеем согласился из ремесленного расчета выковырнуть жемчужинку из этой подыхающей раковины.
На ближайшем перекрестке Векшин задумчиво и дружественно — потому что устраивал встречу не без отдаленной выгоды для себя! — расстался с Фирсовым. На прощанье он дал сочинителю несколько практических советов в обращенье с предстоящим собеседником и прежде всего адресок, по которому полчаса спустя должен был явиться Агей Столяров.
Закончив труды дня, Пчхов воротился из мастерской в заднюю комнатушку. Он снял с себя все, что носило след прикосновенья к железу, и отмыл руки каустической содой. Потом надел старенькую меховую безрукавку, долголетнюю свидетельницу пчховских скитаний и превращений, а ныне верную хранительницу пчховского тепла.
Со двора в подслеповатое, осколками остекленное оконце обычно стучали как в дворницкую. У дверей жалось к стенке деревцо, про которое веснами догадывались, что это бывшая сирень; тотчас за углом примостилась помойка. Пчхов никогда не мыл окна, так оно надежней охраняло его непонятную жизнь от людского любопытства. Все равно весна не забредала в кривоватый пчховский дворик; все солнечные благодеяния пожирал высоченный, выстроенный подковой соседний дом, сумасшедше утыканный окошками. Солнце мастер Пчхов заменил печкой, которую сочинил по своему подобию. Коренастая, с прогоревшей на сгибе трубой, она полновластно и мешая проходу громоздилась посреди каморки, сердилась и дымила порою в плохом настроении, зато всю ночь отдавала терпкое и чистое тепло. Большинство пчховских вещей было возвращено к жизни из мусорного ничтожества, вроде керосиновой лампы над столом, раздобытой в куче железного лома; мастер Пчхов приложил свое искусство к ее дырявым бокам, и она благодарно служила ему исправнее иных непроверенных друзей.
После дневных трудов присаживаясь к столу, Пчхов хозяйственно оглядывал свою конуру и, человек одинокий, неподслушиваемый, разговаривал сам с собой. Так сказал он печке, глодавшей толстое полено:
— Вот от злости глотка у тебя и ржавеет!
А лампе сказал:
— Погоди, поем — подолью тогда.
А себе, берясь за ложку:
— Займемся пустяками, Пчхов! — В пище он придерживался кваса и овощей, так что трапеза его была вольным подражаньем русской мурцовке.
Подкрепившись же, раскладывал на столе набор из рессорной стали самодельных стамесок, сверкавших нежными остриями, доставал с полки пластины цветного дерева и замирал в раздумье, прежде чем коснуться древесной мякоти лезвием. Превыше всех наслаждений на свете возлюбил он свое вечернее одиночество, — виток за витком снимать древесные слои, раскрывать спрятанную под ними красоту, а сквозь нее — мысленно и безотрывно глядеть на объятый пламенем мир. Очень похоже, что шорохом той волшебной стружечки пытался он заглушить рев бушевавшей вокруг бури, рушившей прежние веры и воздвигавшей новые взамен.
Для необыкновенности, которую собирался мастерить в тот вечер, он выбрал пластину березового наплыва, олохмаченную плотничьей пилой. Но едва взялся за рубанок для зачистки, пискнула незапертая дверь, упреждая о позднем госте. Пчхов обернулся, лишь когда тот повторно, робким прикашливаньем заявил о своем присутствии.
— А-а, все тот же, разлинованный, пришел… — без враждебности вспомнил Пчхов, поверх очков меря взглядом подозрительного посетителя. — Видать, отыскалась наконец вещица для починки… али опять дома забыл?
— Не знаю, чем сломить недоверие ваше, так как действительно в начале зимы имел неосторожность забрести к вам без видимой цели и — успеха поэтому… — напал Фирсов, ища красок для первого благожелательного впечатления, даже с ходу польстил Пчхову в том смысле, что ясная память — верный признак долголетия. — Верно, известен вам парикмахер Королев?
— Как же, упреждал меня Митя, что писатель придет. Сейчас, наверно, и тот ворвется… Сымай пока свою клетку, раз пришел, здесь не украдут!
— Не будет потери, если это и случится! — поддержал Фирсов, втискивая свой демисезон в тесный промежуток между печкой и стенкой, за отсутствием вешалки — тканью ворота на гвоздь. — Что это вы так пронзительно приглядываетесь?
— Сбил ты меня с толку в прошлый раз, — покачал головой Пчхов. — Барыга не барыга, а вроде, как бы сказать поглаже… ловец чего-то!
— Неужто на барыгу смахиваю? — без обиды заинтересовался Фирсов, уже осведомленный, что словом этим, так же как и каином, обозначается скупщик краденого. — Что же, писатель и есть ловец… ловец человеков.
— И чего же ты описываешь?.. в газетку что-нибудь, и в жизни человечества али в другом каком духе?
— Ну, в газетке это дневником происшествий называется, — постарался быть точным гость, — а я то же самое беру, но главным образом как оно во мне самом — отражается!
— Понятно, значит, больше из ума охватываешь… — вообразил Пчхов. — Тоже неплохо.
Оба занялись своими делами. Фирсов принялся протирать запотевшие с улицы очки, хозяин же — править стамеску на оселке, и пока они так примеривались друг к дружке, лишь ходики стучали на стенке да поскрипывал под нажимом стол… Потом из потемок вышла кошка и стала тереться в ногах гостя.
— Зря стараешься, — сказал ей Фирсов, — ничего съедобного не захватил я с собой, уважаемая кошка.
— Гони ее, надоедливая, — отозвался Пчхов. — Чего там, на дворе-то?.. подморозило аль ростепель все? Когда лето сухое, то и зима бывает снежная.
— Снег еще давеча перестал, — сказал Фирсов и сделал попытку пойти на сближение. — Это у вас кошка местной, благушинской породы? Очень приятная кошка.
— Нет, это соседская, — правильно понял Пчхов смысл его замечанья. — Плесни молочка ей, вон с подоконника возьми…
Выполнив просьбу хозяина, Фирсов счел себя вправе и закурить, а заодно осведомиться о чурке дерева под окном, густая краснота которого на срезе перебегала кое-где в черноту запекшейся крови.