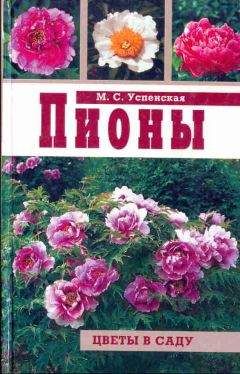Когда по лесенке мы сбежали вниз, Чубук остановился, вынул коробок и, чиркнув спичкой, бросил ее на кучу хлама. Большой ком серой сухой бумаги вспыхнул, и пламя потянулось к валявшейся на полу соломе. Еще минута, другая, и вся замусоренная комната загорелась бы. Но тут Чубук с неожиданной решимостью растоптал огонь и потянул меня к выходу.
— Не надо, — как бы оправдываясь, сказал он. — Все равно наше будет.
Минут через десять мимо кустов, в которых мы спрятались, промчались четверо всадников.
— На усадьбу скачут, — пояснил Чубук. — Я как увидел в углу постеленную дерюгу, понял, что старик не один живет, а еще с кем-то. Видел ты, он все к окну подходил? Пока мы внизу по комнатам лазили, он послал за белыми кого-то. Так же и с чаем. Подозрительным мне что-то этот коньяк показался, может, разбавил его каким-нибудь крысомором? Не люблю я и не верю разграбленным, но гостеприимным помещикам! Кем он ни прикидывайся, а все равно про себя он мне первый враг!
Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую непогоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня.
— Теперь караулить друг друга надо, — сказал он. — Я уже давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторожи. Неравно, как пойдет кто. Да смотри не засни тоже!
— Нет, Чубук, я не засну.
Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась река. Вчера мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсохла, и тина липкой коростой облепила тело.
«Искупаться бы, — подумал я. — Речка рядышком, только под горку спуститься».
С полчаса я сидел и караулил Чубука. И все не мог отвязаться от желания сбегать и искупаться. «Никого нет кругом, — думал я, — кто в этакую рань пойдет, да тут и дороги никакой около не видно. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов».
Соблазн был слишком велик, тело зудело и чесалось. Скинув никчемный патронташ, я бегом покатился под гору.
Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне казалось, и прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я был на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которой я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце ёкнуло. Забарахтался. Сразу стало теплее. У-ух, как хорошо! Поплыл тихонько на середину. Там, на отмели, стоял куст. Под кустом запуталось что-то: не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздвинул ветки и сразу же отпрянул назад. Зацепившись штаниной за сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана, и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми саженками, точно опасаясь, что кто-то вот-вот больно укусит меня, поплыл назад.
Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста, буйно зеленевшего на отмели. То ли вода ударила крепче, то ли, раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника, а только он выплыл, его перевернуло течением и понесло к моему берегу.
Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку, чтобы скорей убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот, тело расстрелянного было уже рядом, почти у моих ног.
Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись, едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех раненых, оставленных нами на пасеке, это был наш Цыганенок.
— Эгей, хлопец! — услышал я позади себя окрик. — Подходи-ка сюда.
Трое незнакомых направлялись прямо ко мне. Двое из них были с винтовками. Бежать мне было некуда — спереди они, сзади река.
— Ты чей? — спросил меня высокий чернобородый мужчина.
Я молчал. Я не знал, кто эти люди — красные или белые.
— Чей? Тебя я спрашиваю! — уже грубее переспросил он, хватая меня за руку.
— Да что с ним разговаривать! — вставил другой. — Сведем его на село, а там и без нас спросят.
Подъехали две телеги.
— Дай-ка кнут-то! — закричал чернобородый одному из мужиков-подводчиков, робко жавшемуся к лошади.
— Для че? — недовольно спросил другой. — Для че кнутом? Ты веди к селу, там разберут.
— Да не драть. Руки я ему перекручу, а то вон как смотрит, того и гляди, что стреканет.
Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толкнули к телеге:
— Садись!
Сытые кони дернули и быстрой рысцой понесли к большому селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке.
Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые — партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится и меня сразу же отпустят.
В кустах недалеко от села постовой окликнул:
— Кто едет?
— Свои… староста, — ответил чернобородый.
— А-а-а!.. Куда ездил?
— Подводы с хутора выгонял
Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не успел рассмотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внимание было приковано к его плечам. На плечах были погоны.
Солдат на улице еще не было видно — вероятно, опали. Возле церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на растопку лучину.
— В штаб везти? — спросил возница у старосты.
— Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит из-за такого мальца тревожить. Вези пока в холодную.
Телега остановилась возле низкой каменной избушки с решетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери. Наспех прощупав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь захлопнулась, хрустнула пружина замка. В первые минуты острого, причинявшего физическую боль страха я решил, что погиб, погиб окончательно и бесповоротно, что нет никакой надежды на спасение. Взойдет солнце выше, проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет, и тогда смерть, тогда конец.
Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, закоченел в каком-то тупом бездумье. В виски молоточками стучала кровь: тук-тук, тук-тук, и мысль, как неисправная граммофонная пластинка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же: «Конец… конец… конец…» Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного толчка острие сознания попало в нужную извилину мозга, и мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой.
«Неужели никак нельзя спастись? И так нелепо попался! Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на село нападут красные и успеют отбить? А если не нападут? Или нападут уже потом, когда будет поздно? Может быть… Нет, ничего не может быть, ничего не выходит».
Мимо окна погнали стадо. Тесно сгрудившись, колыхались овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бичом пастух. Маленький теленок бежал подпрыгивая и смешно пытался на ходу ухватить вымя коровы.
Эта мирная деревенская картина заставила еще больше почувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешалась и даже подавила его на короткое время злая обида — вот… утро такое… все живут. И овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты помирай!
И, как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых и невозможных планов выплыла одна необыкновенно простая и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естественней всего и прежде всего должна была прийти на помощь.
Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя принадлежность к красным вовсе не написана на моем лбу. То, что я красный, как бы подразумевалось само собой и не требовало никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне вообще таким никчемным, как объяснять постороннему, что волосы мои белые, а не черные, — объяснять в то время, когда всем и без объяснения это отлично видно.
«Постой, — сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную нить. — Ну ладно… я красный. Это я об этом знаю, а есть ли какие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом они?»
Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению, что признаков таких нет. Красноармейских документов у меня не было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял, убегая от кордона. Тогда же бросил я и шинель. Разбитая винтовка валялась в лесу на траве, патронташ, перед тем как идти купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная, ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще остается? Ах, да! Маленький маузер, спрятанный на груди, и еще что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Но маузер можно запихать под печь, а историю… историю можно и выдумать.
Чтобы не запутаться, я решил не усложнять обстоятельств выдумыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гориковым, учеником пятого класса Арзамасского реального училища, отправившимся с дядей (чтобы не сбиться, дядю настоящего вспомнил) в город Харьков к тетке (адрес тетки остался у дяди). По дороге я отстал от дяди, меня ссадили с поезда за проезд без пропуска и документов (они у дяди). Тогда я решил пройти вдоль полотна, чтобы сесть на поезд со следующей станции. Но тут красные кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел, скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направлялся в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся узнать в адресном столе. Если скажут: «Какие же, к черту, могут быть сейчас адресные столы?» — удивлюсь и скажу, что могут, потому уж на что Арзамас худой город, и то там есть адресный стол. Если спросят: «Как же так дядя надеялся пробраться из красной России в белый Харьков?» — скажу, что дядя у меня такой пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу проберется. А я вот… нет, не пройдоха, не могу никак. На этом месте нужно будет заплакать. Не особенно, а так, чтобы печаль была видна. Вот и все пока, остальное будет видно на месте.