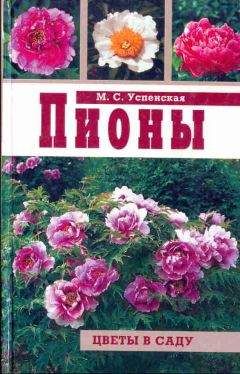Но, уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам, и по тому, как Чубук быстро сощурил глаз и перевел взгляд с меня на шагавшего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки ничего не понял и считает меня также арестованным по подозрению, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся. Я тебя не выдам».
Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее не заметили ни денщик, ни конвоир. Покачиваясь, я вышел во двор.
— Сюда пожалуйте, — указал мне денщик на небольшой сарайчик, примыкавший к стене дома. — Там сено снутри и одеяло. Дверцу только заприте за собой, а то поросюки набегут.
Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. «Что же делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему бежать? Я виноват, я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареники, и Чубук должен за меня расплачиваться».
Но придумать ничего я не мог.
Голова нагрелась, щеки горели, и понемногу лихорадочное, возбужденное состояние овладело мной. «А честно ли я поступаю, не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» Мысль эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конечно, — шептал я, — это будет, по крайней мере, искуплением моей невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому офицеру. «Ну да, конечно, — торопливо убеждал и уговаривал себя я, — я встану сейчас, выйду и все скажу. Пусть видят тогда и солдаты и капитан, как могут умирать красные. И когда меня поставят к стенке, я крикну: „Да здравствует революция!“ Нет… не это. Это всегда кричат. Я крикну: „Проклятие палачам!“ Нет, я скажу…»
Все больше и больше упиваясь сознанием мрачной торжественности принятого решения, все более разжигая себя, я дошел до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое настоящее значение.
«Встаю и выхожу. — Тут я приподнялся и сел на сено. — Так что же я крикну?»
На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью, какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в сознании, и, вместо того чтобы придумать предсмертное слово, уж не знаю почему я вспомнил старого цыгана, который играл на свадьбах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не связанное с тем, о чем я пытался думать в ту туманную минуту.
«Встаю…» — подумал я. Но сено и одеяло крепким, вяжущим цементом обволокли мои ноги.
И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось подниматься, и все эти раздумья о последней фразе, о цыгане — все было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент. Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончательно не хотелось идти открываться и становиться к стенке.
Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим мальчиком из далекой Французской революции.
Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым: не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса.
Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана:
— …поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе сделаешь. Сколько пулеметов в отряде?
— Хуже уже некуда, а вилять мне нечего, — отвечал Чубук.
— Пулеметов сколько, я спрашиваю?
— Три… дна «максима», один кольт.
«Нарочно говорит, — понял я. — У нас в отряде всего только один кольт».
— Так. А коммунистов сколько?
— Все коммунисты.
— Так-таки и все? И ты коммунист?
Молчание.
— И ты коммунист? Тебя спрашиваю!
— Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает.
— Мо-ол-чать! Ты, как я смотрю, кажется, идейный. Стой прямо, когда с тобой офицер разговаривает. Это ты в усадьбе был?
— Я.
— С тобой еще кто?
— Товарищ… Еврейчик один.
— Жид? Куда он делся?
— Убег куда-то… в другую сторону.
— В какую сторону?
— В противоположную.
Что-то стукнуло, двинулась табуретка, и баритон протяжно заговорил:
— Я тебе дам «в противоположную»! Я тебя сейчас самого пошлю в противоположную.
— Чем бить, распорядились бы лучше скорей, да и делу конец, — тише прежнего донесся голос Чубука. — Наши бы, если бы вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду — да и в расход. А вы, глядите-ка, всего плетюгой исполосовали, а еще интеллигентный.
— Что-о?.. Что ты сказал? — высоким, срывающимся голосом закричал капитан.
— Я говорю, нечего человека зря валандать!
Вмешался третий голос:
— Господин… командир полка — к аппарату!
Минут десять за стеной молчали. Потом с крыльца уже послышался голос денщика Пахомова:
— Ординарец! Мусабеков!.. Ибрагишка!..
— Ну-у? — донесся из малинника ленивый отклик.
— И где ты, черт, делся? Седлай жеребца капитану.
За стеной опять баритон:
— Виктор Ильич! Я в штаб… Вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шебалова соединились возле Разлома.
— А с этим что?
— Этого… этого можно расстрелять. Или нет — держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. Пахомов! — повышая тон, продолжал капитан. — Лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. Да! Когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо. Я там пообедаю.
Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я увидел, как конвоиры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром.
«Капитан вернется поздно, — подумал я, — значит, в следующий раз Чубука выведут для допроса ночью».
Робкая надежда легким, прохладным дуновением освежила мою голову.
Я здесь на свободе… Никто меня ни в чем не подозревает, больше того: я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где хочу, и, когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чубуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его обезоруженным, сможет убить и того и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь темные: два шага отскочил — и пропал. Только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через окно, сидит у крыльца и сторожит дверь; только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет.
Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку.
Решетчатое окошко, за которым сидел Чубук, черной дырой уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы.
«Хорошо, если бы Чубук заметил меня, — подумал я. — Это ободрит его, он поймет, что раз я здесь на свободе, то постараюсь спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой помахать — часовой заметит… Ага! Вот как. Так же, как когда-то в детстве я вызывал Яшку Цуккерштейна в сад или на пруд».
Сбегал в комнату, снял со стены небольшое походное зеркальце и вернулся на завалинку. Сначала я занялся рассматриванием прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил солнечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда незаметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому, сидевшему на крыльце, был невидим острый луч, ударивший через окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигая зеркала, я закрыл ладонью стекло, открыл опять, и так несколько раз.
Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтересуется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался
В следующую минуту в окне под лучами моего солнечного прожектора возник силуэт человека. Сверкнув еще несколько раз, чтобы Чубук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав во весь рост, как бы потягиваясь, поднял руку вверх, что на языке военной сигнализации всегда обозначало: «Внимание! Будьте готовы!»
К крыльцу подошли два стройных юнкера в запыленных бескозырках, с карабинами, ловко перекинутыми наискосок за спину, и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана младший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет:
— От полковника Жихарева.
С завалинки я услышал жужжание телефона: младший офицер настойчиво вызывал штаб полка. Четыре солдата, присланные от рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут распахнулись ворота околицы, и десять черных казаков легкой стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно поразили меня.