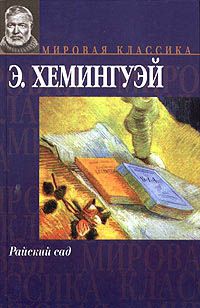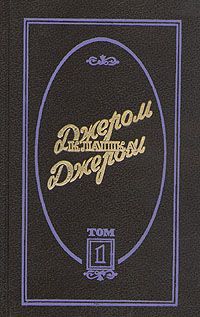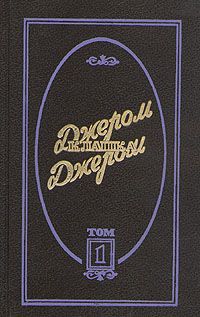«Это история, рассказанная мальчиком», – подумал Дэвид, когда закончил писать. Он перечитал рассказ и заметил все огрехи, которые надо было исправить, чтобы читатель почувствовал, как все было на самом деле, и пометил эти места на полях.
Он помнил, как слон утратил свою величавость, когда потух его взгляд, и как вздулась, несмотря на вечернюю прохладу, туша, когда они с отцом вернулись к нему с рюкзаками. Это был уже не слон, а лишь серая, морщинистая, разбухшая туша с огромными, в коричневых крапинках, желтыми бивнями, из-за которых его убили. На бивнях запеклась кровь, и Дэвид сковырнул ногтем большого пальца несколько засохших, похожих на застывшие кусочки сургуча капель и положил их в карман рубашки. Это все, что осталось у него на память о слоне, если не считать проснувшегося понимания одиночества.
Вечером у костра, после того как разделали тушу, отец попытался заговорить с ним.
– Он был убийцей, Дэвид, – сказал он. – Джума говорит, никто не знает, сколько людей он погубил.
– Но ведь они все пытались убить его, так?
– Еще бы! – сказал отец. – Такие бивни.
– Тогда как можно назвать его убийцей?
– Ну, как хочешь, – сказал отец. – Жаль, что ты так переживаешь из-за него.
– Жаль, что он не убил Джуму, – сказал Дэвид.
– Ну, это уж слишком, – сказал отец. – Джума – твой друг.
– Уже нет.
– Хотя бы ему не говори.
– Он знает, – сказал Дэвид.
– По-моему, ты несправедлив к нему, – сказал отец, и больше они об этом не говорили.
Позже, когда они благополучно добрались с бивнями до деревни и поставили их, соединив верхние концы, у стены слепленной из веток и глины хижины, и бивни были настолько высокие и толстые, что, даже потрогав их, никто не верил, что такие бывают, и никто, в том числе и его отец, не мог дотянуться до верхней точки в изгибе бивней, когда Джума, и отец, и он сам, и принесшие бивни, подвыпившие и продолжавшие праздновать мужчины стали героями, а Кибо – собакой героя, отец сказал:
– Хочешь помириться, Дэви?
– Ладно, – согласился он, потому что уже решил, что больше он отцу никогда ничего не расскажет.
– Я очень рад, – сказал отец. – Так намного проще и лучше.
Потом их посадили в тени большой смоковницы на предназначенные для старейшин стулья, а бивни по-прежнему стояли у стены хижины, и они пили местное пиво из тыквенных плошек, которое подавали молоденькая девушка и ее младший брат, превратившиеся из надоедливых приставал в слуг героев, и сидели они здесь же, на земле, рядом с отважной собакой героя, а сам герой держал в руках старого петушка, только что повышенного в звании до любимого бойцового петуха героев. Пока они сидели и пили пиво, кто-то ударил в большой барабан и начался нгома[40].
Он вышел из комнаты, чувствуя себя счастливым, голодным и гордым. Марита ждала его на террасе, греясь под ярким солнцем раннего осеннего утра, о наступлении которого он и не подозревал. Утро было прекрасное, тихое и прохладное. Море внизу было зеркально-гладким, и по ту сторону залива белым изгибом вытянулся город Канны, за которым темнели горы.
– Я очень люблю тебя, – сказал он смуглой девушке, когда она поднялась ему навстречу. Он обнял ее и поцеловал, и она спросила:
– Ты закончил рассказ?
– Конечно, – сказал он. – Почему бы нет?
– Я люблю тебя и страшно горжусь тобой, – сказала она. Обнявшись, они прошли по террасе, глядя на море.
– Как ты? – спросил он.
– Мне очень хорошо, и я счастлива, – сказала Марита. – Ты действительно любишь меня или это просто утро такое хорошее?
– Должно быть, утро, – сказал Дэвид и поцеловал ее еще раз.
– Можно прочесть рассказ?
– Не стоит портить такой день.
– Разреши я прочту, чтобы чувствовать то же, что и ты, а не просто радоваться за тебя, точно я – твоя собачонка.
Он дал ей ключи, и она принесла тетради и прочла рассказ в баре. Дэвид, сидя рядом, перечитывал его вместе с ней. Он понимал, что это плохо и глупо. Раньше он никогда не поступал так, это было против его правил. Но он забыл об этом, как только обнял Мариту и увидел строчки на разлинованной бумаге. Он не мог удержаться, чтобы не прочесть рассказ вместе с ней и не поделиться тем, чем, как ему прежде казалось, нельзя и не следует делиться.
Закончив читать, Марита обняла Дэвида и так крепко поцеловала его, что он почувствовал кровь на губе. Он посмотрел на нее, рассеянно слизнул кровь и улыбнулся.
– Прости, Дэвид, – сказала она. – Пожалуйста, прости. Я так счастлива и так горжусь тобой.
– Тебе понравилось? – спросил Дэвид. – Ты почувствовала аромат шамба, и как пахнет чистотой в хижине, как стерты до блеска стулья старейшин? Знаешь, в хижине очень чисто, земляной пол постоянно подметают.
– Конечно. Ты писал об этом в другом рассказе. Я даже вижу, как держал голову Кибо, твой героический пес. Ты мне тоже понравился. Скажи, у тебя в кармане остались следы крови?
– Да, комочки размякли от пота.
– Пойдем в город и отметим этот день, – сказала Марита. – Сегодня нам все позволено.
Дэвид зашел в бар, налил виски с содовой и взял стакан к себе в комнату, где отпил половину виски и принял холодный душ. Потом он надел брюки, рубашку и alpargatas[41], чтобы ехать в город. Рассказ ему нравился, но еще больше нравилась Марита. И хотя теперь его восприятие снова обострилось, ни рассказ, ни Марита не казались от этого хуже, ясность мысли вернулась без обычной печали.
Кэтрин делает что хочет, и хорошо. Он давно не ощущал себя счастливым и беззаботным. В такой день хорошо летать… Жаль, здесь нет аэродрома, он бы взял напрокат самолет и поднял Мариту в небо и показал ей, как можно радоваться такому дню. Ей бы понравилось. Но аэродрома здесь нет, нечего и мечтать об этом. А было бы здорово. Еще хорошо бы прокатиться на лыжах. Впрочем, это можно осуществить через пару месяцев, если захочется. Как хорошо, что рассказ закончен сегодня и что рядом она, Марита, и нет проклятой ревности к работе, и она понимает, что ты хочешь сказать и что тебе удалось. Она действительно понимает, а не притворяется. «Я люблю ее и призываю в свидетели тебя, виски, и тебя „Перье“, старина, – думал он, – ведь я оставался верен тебе, слышишь? Хорошо, когда на душе легко. Дурацкое ощущение, но вполне соответствует настроению дня».
– Пошли, девочка, – сказал он Марите, остановившись у дверей в ее комнату. – Что тебя задерживает, кроме твоих прелестных ножек?
– Я готова, Дэвид, – сказала она.
На ней были облегающий свитер и брюки, и лицо ее светилось радостью. Она причесала свои темные волосы и посмотрела на Дэвида.
– Как хорошо, когда ты такой веселый.
– Прекрасный день, – сказал он. – И мы с тобой счастливчики.
– Ты так думаешь? – спросила она по дороге к машине. – Ты правда думаешь, что мы будем счастливы?
– Да, – ответил он. – Все изменилось сегодня утром, а может быть, еще ночью.
Когда они вернулись, машина Кэтрин стояла на подъездной аллее, с правой стороны посыпанной гравием дороги. Дэвид поставил «изотту» рядом. Они вышли и молча прошли мимо маленького голубого авто, а потом по выложенной каменными плитами дорожке подошли к гостинице.
Дверь в комнату Дэвида была заперта, а окна открыты. Около своей двери Марита остановилась и сказала:
– До свидания.
– Что будешь делать после обеда? – спросил он.
– Не знаю, – сказала она. – Буду у себя.
Дэвид вернулся назад через внутренний дворик гостиницы и вошел в дом через главный вход. Кэтрин сидела в баре и читала «Геральд». Перед ней на стойке стояли стакан и наполовину пустая бутылка вина. Она подняла на него глаза.
– Изволили вернуться? – спросила она.
– Мы пообедали в городе, – сказал Дэвид.
– Как поживает твоя шлюха?
– Еще не обзавелся.
– Ну как же, а эта, для кого ты пишешь свои рассказики?
– Ах, рассказы.
– Да, рассказики. Жалобные рассказики о твоей юности и папаше, – пьянице и мошеннике.
– Ну, уж мошенником-то он не был.
– А разве он не надул жену и друзей?
– Нет. Только себя самого.
– Какой-то он жалкий в этих твоих зарисовках, на бросках, или, лучше сказать, бессмысленных анекдотах!
– Ты хочешь сказать, в рассказах.
– Ты называешь это рассказами? – спросила Кэтрин.
– Да, – сказал Дэвид и налил себе стакан дивного холодного вина. День стоял ясный и солнечный, и в симпатичной гостинице было чисто, уютно и светло, но все равно вино не смогло отогреть его сердце.
– Хочешь, я позову наследницу? – спросила Кэтрин. – А то она еще решит, что мы забыли, чей сегодня день, или, чего доброго, снова стали пить только вдвоем.
– Незачем звать ее, раз тебе не хочется.
– Нет, позову. Сегодня она заботилась о тебе, а не я. Поверь, Дэвид, я не такая уж дрянь, какой кажусь.
В ожидании возвращения Кэтрин Дэвид выпил еще шампанского и прочел парижское издание «Нью-Йорк геральд», оставленное Кэтрин на стойке бара. В одиночку вино казалось совершенно непонятным на вкус, и он нашел на кухне пробку, чтобы закупорить бутылку и положить ее в ледник. Но бутылка почему-то была очень легкой, и, посмотрев ее на свет, проникавший через окно, он решил допить остаток вина, а пустую бутылку поставить на плиточный пол. Последний стакан он выпил залпом, но и на этот раз ничего не почувствовал.