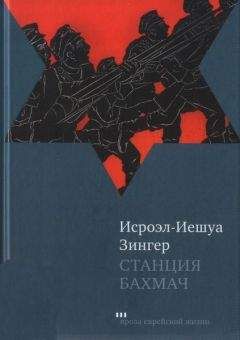Все дочери согласны с mother[161]. С аппетитом поедая материнский домашний пирог, какой не достать даже на самом Eastern parkway[162], где они живут, дочери кивают, соглашаясь с каждым словом, которое произносит мать, и от души жалеют свою младшую сестру, которая, бедняжка, так влипла.
— Poor baby[163], — называют они Бетти, гладя ее и целуя.
Бетти черпает в своем мученичестве новые душевные силы и очень жалеет себя. Положив голову на большую, колышущуюся материнскую грудь, которая выкормила стольких детей, она хнычет, как в детстве.
— О, мама, почему Бетти так несчастна? — вопрошает она в третьем лице от жалости к самой себе. — Почему, мамочка?
Мистер Феферминц больше не может спокойно сидеть над своей «зачерствевшей» за неделю газетой и снова вставляет слово, хотя он было зарекся вмешиваться.
— Что она расселась и причитает над собой, как над покойницей? — кричит он жене и дочерям. — В чем же тут несчастье, если она будет жить с мужем в деревне?
Геня уставилась на него и ощеривается, как невинная кошечка, которую теснит злая собака.
— Это ж ты без ножа ребенка зарезал, — шипит она в гневе, — это ты привел гринхорна[164]в дом. Ты, ты, ты…
Несмотря на то что она сама родилась не в Америке, а приехала из Польши, Геня держит себя, как настоящая американка, на правах матери дочерей, родившихся в Вильямсбурге, и в еще большей степени на правах тещи их мужей, американских джентльменов, все как один. И более сильного оскорбления, чем «гринхорн», для тех, кого она презирает, у нее нет. Именно так она называет своего неудачного зятя Шолема Мельника. И так же она называет своего собственного мужа, когда злится на него. Пусть он и отец ее дочерей-американок, и тесть их мужей, Геня все равно считает своего мужа «гринхорном» из-за его старомодных манер, из-за его нищенского ремесла, которое он никак не бросит, из-за того, что он по уши погружен в дела своей маленькой синагоги, из-за его одежды и внешности и даже из-за его старосветского имени — Ноех Феферминц. Она, эта Геня, уверена, что если ее дочери, без цента приданого, вышли за хороших людей, бизнеслайт, то в этом лишь ее заслуга. Это все потому, что она по-людски вела дом, хорошо воспитывала детей и старалась вытолкнуть их на ступеньку повыше, чем ее собственная. Точно так же она уверена: муж, которого все время тянет к прошлому, полностью виноват в том, что Бетти покатилась вниз и потеряла голову от «гринхорна» Шолема Мельника.
— Гринхорн гринхорна видит издалека, — говорит Геня мужу, который стоит на стороне своего зятя против родной дочери, — если бы не ты, не было бы несчастья.
Все дочери, радуясь, что избежали Беттиной судьбы, кивают в ответ на слова своей mother.
— Мама права, — утверждают они, — разве он подходит Бетти, этот гринхорн?
Хотя после Беттиной свадьбы прошло уже семнадцать лет, семья никак не может простить себе, что Бетти вышла замуж за Шолема Мельника, гринхорна и маляра. Больше всех этого не может простить себе Беттина мать, Геня.
Дело в том, что самой любимой дочерью Гени всегда была Бетти, ее бейби. Она считала Бетти самой красивой, самой удачной, самой везучей и поэтому возлагала на нее большие материнские надежды и ожидала от нее всяческих родительских радостей.
Смуглая, черноглазая, сочная, полная того притягательного очарования, какое бывает лишь у красавиц-брюнеток, Бетти с юных лет нравилась людям. Еще когда она ходила в паблик-скул[165] и в свободное время каталась на роликах по многолюдным вильямсбургским улицам, взрослые в умилении щипали ее за щечку, а сверстницы так и льнули к ней. Стоило ей немного подрасти, и мальчики уже посылали ей любовные записочки, а стены дома, в котором жили Феферминцы, исписывали бесконечными сердечками и именами. Те, что посмелее, приглашали ее в дрог-стор Альберта на углу улицы на айс-крим соду[166] или даже в соседнее муви[167], где пробовали взять ее за руку в темноте. К пятнадцати годам Бетти уже по-настоящему признавались в любви восемнадцатилетние студенты, которые даже предлагали ей сбежать с ними и пожениться. Когда ей исполнилось семнадцать и она окончила хай-скул, не кто иной, как сам Альберт-аптекарь, у которого она частенько сиживала на высоком табурете и потягивала соду через соломинку, стал ухаживать за ней с серьезными намерениями.
Геня, которой дочь поверяла все свои девичьи тайны, сияла от удовольствия, когда Бетти вечером забиралась к ней в постель и пересказывала слова любви, которые произносил Альберт-аптекарь во время их встреч. Во-первых, этот Альберт считался на их улице важной шишкой. У него не только заказывали лекарства, но и спрашивали медицинских советов по поводу легких заболеваний, и Альберт всегда знал, как следует поступить. Во-вторых, к нему обращались с делами, которые не имели никакого отношения к его профессии. Его просили прочитать письмо, оценить, сколько марок нужно наклеить на запечатанный конверт, посоветовать, как вести себя с этой свиньей, лендлордом[168], который не дает житья, и в какой банк лучше положить пару долларов. Расторопный, со всюду заглядывающим, все видящими и все замечающими глазами за толстыми стеклами тяжелых очков, доброжелательный, терпеливый и улыбчивый молодой человек, Альберт был любимцем всей улицы. Матери дочерей не могли на него наглядеться и заранее завидовали той, кому он достанется в зятья. Кроме того, на улице знали, что хотя дрог-стор принадлежит не ему, а его больному онклу[169], который больше не может работать, тем не менее Альберт полностью распоряжается этим хорошим бизнесом и со временем унаследует дело.
— Беселе, не позволяй ему заходить слишком далеко, потому что мужчины — свиньи, — учила Геня свою неопытную в отношениях между мужчинами и женщинами дочь, — но будь с ним подобрее, и, если Бог даст, ты еще станешь хозяйкой дрог-стор…
Именно там, в этой дрог-cmop, Геня хотела видеть свое удачное бейби. Геня с детства помнила аптеку в своем родном местечке. Евреям там приходилось снимать шапку, и нельзя было даже думать о том, чтобы поторговаться с барыней-аптекаршей, от которой веяло лекарствами, гордостью и высокомерием. И мысль о том, что ее дочь станет аптекаршей, скоро стала наполнять Геню гордостью. Вдруг, когда дело уже почти что выгорело, ее муж, этот переплетчик, принес в дом несчастье. Однажды вечером, вернувшись из своей маленькой синагоги после вечерней молитвы, он привел с собой высокого парня в перепачканном оверолсе маляра и показал ему лишнюю комнатку, которая пустовала и для которой искали съемщика, чтобы тот помогал платить за квартиру.
Геня даже не сочла нужным приглядеться к высокому юноше в оверолсе, который заплатил несколько замусоленных долларов за месяц вперед. А ее муж как раз наоборот расточал похвалы парню, который ежевечерне приходит в его синагогу говорить кадиш. Мистер Феферминц не мог на него, на этого Шолема Мельника, нахвалиться: что за честный парень, тихий, трудолюбивый и к тому же свой парень, не так давно с той стороны Атлантики.
Этого одного было достаточно для Гени, чтобы она стала смотреть на чужака с презрением, как на всех «зеленых». Она ни о чем не спрашивала его, когда он уходил рано утром на работу, и не заговаривала с ним, когда вечером он, измазанный краской, возвращался с работы. Также она не прислушивалась к рассказам мужа о парне, то есть к рассказам о Старом Свете и тому подобных «зеленых» делах — пустом вздоре, на который жаль тратить время и переводить допоздна электричество. Лучше она пораньше ляжет спать, чтобы еще посекретничать со своей бейби о ее отношениях с аптекарем Альбертом. Но как же велико было ее удивление, когда, вместо того чтобы в очередной раз поговорить об аптекаре Альберте, Бетти вдруг повела речь о мистере Мельнике, маляре.
— Знаешь, мама, у него удивительные зеленые глаза, у этого мистера Мельника, — шептала ей Бетти. — Зеленые глаза, обрамленные угольно-черными густыми бровями. Как тебе это нравится, мама?
Геня и слышать не хотела дочкину болтовню. Во-первых, она что-то не слышала, что зеленые глаза — это достоинство, особенно у мужчин. Во-вторых, ей совершенно не хотелось говорить о других мужчинах, кроме аптекаря Альберта.
— Глаза у него зеленые, должно быть, от краски, — отшутилась она, — да и вообще он весь «зеленый», не на что посмотреть, дочка.
Однако Бетти начала засматриваться на «зеленого» паренька, чем дальше, тем больше. Кроме того, она стала прибираться в его комнатке, повесила там занавески, украсила его кровать самым лучшим в доме покрывалом и даже положила на нее куклу, большую тряпичную куклу, которую одела в пестрые шелк и бархат, как цыганку. Каждый вечер, когда Бетти залезала в постель к матери, она перечисляла Гене новые достоинства, которые обнаружила в мистере Мельнике. Кроме его зеленых глаз она разглядела, что он строен, хорошо сложен, что морщинки на его лице выразительны, особенно те, что идут от носа ко рту, что голос у него мужественный и низкий и в нем слышен металл.