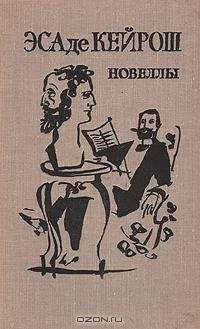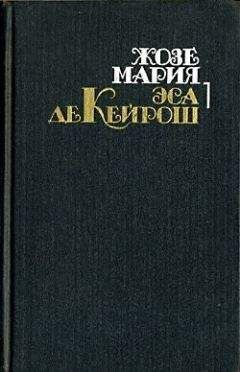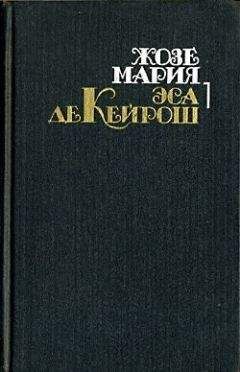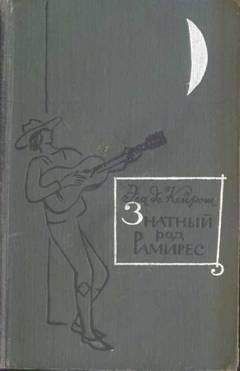Но после каждого из этих, не проходящих для него даром, падений наш праотец восстает все более Человеком, все более нашим Праотцем. Уже сознание, граничащее с Разумом, ощущается в его гулкой поступи, когда он пролагает себе путь по лесному преддверию рая, продираясь сквозь чащу, раздвигая густые заросли, будя тапиров, спящих под чудовищно огромными грибами, или пугая заблудившегося медвежонка, который, встав на задние лапы, высасывает, уже изрядно захмелев, подаренные щедрой осенью виноградные гроздья.
Наконец Адам выходит из темного леса, и его янтарные глаза тут же зажмуриваются, ослепленные сиянием, в котором купается Эдем.
Со склона, где он остановился, перед ним открываются переливающиеся всеми цветами радуги просторные равнины, невиданно плодородные и полные всяческого изобилия (ежели только библейские сказания сего не приукрашивают). Неторопливо течет по равнинам большая река, усеянная островами, щедро поя обильными и широкими заводями растущие здесь плоды земли, среди которых, быть может, уже произрастают чечевица и рис. Утесы из розового мрамора отливают теплым багрянцем. Среди зарослей хлопчатника, белого, словно взбитая пена, высятся холмы, покрытые цветущими магнолиями, превосходящими хлопок своей сверкающей белизной. Вдали снег венчает горную гряду лучистым нимбом святости, свисая по ее обрывистым краям тонкой блестящей бахромой. Другие вершины горят безмолвным пламенем. С отвесных склонов обреченно клонятся в пропасть пышные пальмы. Над озерами туман развешивает сияющую хрупкость своих кружев. И море на краю земли словно заключает все это в золотую раму. На этом плодородном пространстве божье творение, еще сохранившее тепло создавших его рук, являет всю силу, красоту и живую отвагу своей пятидневной юности. Бесчисленные стада рыжешерстных буйволов величаво пасутся среди трав, столь высоких, что буйволицы с телятами скрываются в них с головой. Внушающие страх бородатые зубры мерятся силой с исполинскими благородными оленями: они сталкиваются рогами, и рога трещат, словно сухие дубы под напором ветра. Стадо жирафов окружает мимозу, мягко отщипывая с ее верхушки молоденькие листочки. В тени тамариндов спят уродливые бегемоты, а над ними кружат птицы, услужливо склевывая с их толстой кожи всяких насекомых. Появление тигра обращает в поспешное бегство все эти крупы, рога и гривы, и среди них уверенней и легче всех изгибаются в грациозных прыжках антилопы. Огромная пальма гнется под тяжестью обвившего ее удава. В расщелине скал порой возникает, в ореоле роскошной гривы, морда льва, важно взирающего на солнце и сверкающую бескрайность равнин. В голубой высоте громадные кондоры с распростертыми во всю ширь крылами парят неподвижно среди белоснежных и розовых стай цапель и фламинго. И прямо против склона, по одной из возвышенностей, пересекая заросли, лениво и тяжело передвигается стадо мастодонтов; ветер треплет их длинную шерсть, и хоботы их раскачиваются между изогнутыми, словно серп, клыками.
Так древнейшие летописи описывают древнейший Эдем, раскинувшийся на равнинах Евфрата, или, быть может, на желтом Цейлоне, или между светлыми реками, что омывают нынешнюю Венгрию, или даже в сих благословенных землях, где наш Лиссабон подставляет свои старые бока солнцу, устав от подвигов и мореплаваний. Но кто может поручиться за верность всех этих описаний тогдашних флоры и фауны, когда с того дня, двадцать пятого октября, озарявшего рай осенним сиянием, прошло как весьма кратких, так вместе с тем и весьма насыщенных для такой песчинки, как наша вселенная, более чем семижды семьсот тысяч лет? Достоверно, быть может, лишь то, что затем перед устрашенным Адамом возникла исполинская птица. Птица пепельной окраски, с голой головой, задумчивым взглядом и перьями, растрепанными, словно лепестки хризантем: она неуклюже прыгала на одной ноге, держа в когтях другой, весьма цепко, связку трав и веток. Наш достопочтенный праотец, нахмурив смуглый лоб в тяжком усилии уразуметь, что сие означает, изумленно созерцал невиданную птицу, которая неподалеку от него, под цветущими азалиями, степенно завершала постройку шалаша! Это был чудесный, прочный шалаш, с полом из хорошо утрамбованной глины, стенами, возведенными из крепких сосновых и буковых ветвей, и надежной крышей из сухой травы, а в стене, сплетенной из туго связанных колючих растений, даже красовалось окошко!.. Но праотец всех людей в тот день так ничего и не уразумел.
Он с осторожностью двинулся к большой реке, стараясь не отрываться от края спасительного леса. Медленно, втягивая ноздрями незнакомые ему запахи пасшихся на равнинах тучных травоядных, крепко прижав кулаки к мохнатой груди, Адам шел, раздираемый влечением к этой пышной природе и страхом перед существами, никогда доселе им не виданными и наполнявшими все вокруг оглушительной нескончаемой разноголосицей. Но в нем самом уже клокотал, не умолкая, высший источник, источник, питавшийся Силой Разума, которая звала его к избавлению от первобытной дикости и к овладению, ценой усилий, уже наполовину не столь мучительных, поскольку они уже были наполовину осознанными, теми дарами, кои должны были утвердить его господство над еще неведомой ему Природой и освободить его от гнездившегося в нем страха. И вот при виде всех этих нежданных красот Эдема: пастбищ и пасущихся на них животных, снежных гор, сияющих бескрайних просторов — из груди изумленного Адама тоже вырываются хриплые возгласы и крики, неумелые и непривычные для него, в коих он, сам того не ведая, подражает звучащим вокруг него голосам: реву, пению, грохоту водопадов, всему этому шуму и гаму… И все эти звуки застревают в его еще не просветленной памяти, неотделимые от ощущений, заставивших его их исторгнуть: к примеру, пронзительный визг, вырвавшийся у него при встрече с кенгуру и ее детенышами, которые выглядывали у нее из живота, вновь слетает с его хоботообразных губ, когда другие кенгуру, убегая от него, скрываются впереди, в темной тени коричных деревьев. Библия, с ее восточной склонностью к наивным и пленительным преувеличениям, рассказывает, что Адам после прихода своего в Эдем нарек именами всех животных и все растения, и столь отменно и с таким знанием дела, словно составлялась Естественная история Вселенной, в которой уже присутствовали как сокрушительные ниспровержения Бюффона, так и скрупулезные исследования Линнея. Но нет! Первые слова Адама были всего лишь звуками, напоминавшими хрюканье или рев, хотя звучали они и вправду более торжественно, поскольку внедрялись в его пробуждающееся сознание как цепкие корни того Слова, благодаря которому он и в самом деле стал человеком и с тех пор, великий и смешной, населяет эту землю.
И можно с гордостью предположить, что, когда наш праотец наконец дошел до эдемской реки, он осознал самого себя, Существо, столь отличное от других существ, утвердился в сем сознании, выделил себя среди прочих и, ударяя себя в грудь, надменно взревел: «Я-а-а-а! Я-а-а-а!» Потом, устремив блестящий взгляд на длинную реку, лениво несущую вдаль свои воды, он попытался выразить свои чувства при виде столь необъятных просторов и проворчал с мечтательной жадностью: «Т-т-туда! Т-т-туда!»
II
Спокойная, величаво полноводная, текла она, благолепная райская река, омывая острова, почти утопавшие под пышным бременем густых рощ, благоуханных и оглушаемых неумолчными криками какаду. И Адам, с трудом бредя по низкому берегу, уже ощущает влечение к этим послушным водам, текущим и живым, — это влечение сделается столь сильным у его сыновей, когда они откроют в реке доброго помощника, который и утоляет жажду, и удобряет, и поливает, и мелет, и перевозит. Но сколь многое еще здесь приводит его в ужас и заставляет в испуге мчаться неуклюжими прыжками под защиту прибрежных ив и тополей! На островных отмелях, на мелком розовом песке, прильнув к нему брюхом, лениво греются твердокожие крокодилы: они тяжело дышат и во всю ширь разевают огромные пасти, вбирая весь воздух томительного знойного дня, пропитанный ароматом мускуса. В тростниковых зарослях скользят, блестя, крупные водяные змеи: подняв голову, они с яростью смотрят на Адама, выпуская жало и шипя. Нашему праотцу, поскольку он доселе ничего подобного не видывал, верно, представляются весьма страшными и гигантские в сем первозданном мире черепахи: таща на себе свой панцирь, они пасутся на свежих лугах. Но вот взгляд его натыкается на нечто любопытное, что крайне его привлекает и принуждает живее скользить по топкому берегу, о который бьется, размывая его, бахрома воды. Он видит, как по течению реки большое черное стадо зубров неторопливо, держа рогатые головы над водой, а густые бороды на ее поверхности, переплывает на другой берег, равнину, покрытую созревшими злаками, среди которых, быть может, уже произрастает спелая рожь и кукуруза. Наш достопочтенный праотец долго смотрит, как стадо пересекает сверкающую реку, и в нем тоже зарождается смутное желание переплыть ее и очутиться в тех далях, где так зазывно золотятся травы; подчиняясь этому желанию, он отваживается окунуть руку в поток, в могучий поток, сразу же потянувший его за руку, словно завлекая и подталкивая. Но он, заворчав, выдергивает руку из воды и бредет дальше, расплющивая тяжелыми ступнями и не ощущая при этом ее аромата свежую лесную землянику, обагряющую траву алым, как. кровь, соком… И вскоре вновь замирает, наблюдая за стаей птиц, обсевших гряду высоких скал, густо испещренных птичьим пометом, и высматривающих оттуда, с клювом наготове, что-то внизу, там, где вода бурлит в теснине. Что они там высматривают, эти белые цапли? Косяки красивых рыб, сгрудившихся и напирающих друг на друга, что вынуждает их выпрыгивать из воды, искрясь среди белоснежной пены. Внезапно, с шумом рассекая воздух взмахами белых крыл, одна цапля, а за ней другая ринулись к воде и снова взметнулись ввысь, неся в клювах по рыбине: рыбы извивались, сверкая на солнце. Наш достопочтенный праотец почесал себе бок. Его грубое чревоугодие пробудилось при виде рыбного изобилия и возжелало и для себя хоть какую-нибудь добычу; и, ловко взмахивая рукой, он принимается ловить на лету жуков, которых обнюхивает и с хрустом жует. Но ничто так не поражает первого на земле человека, как толстый ствол плывущего по течению полусгнившего дерева, на котором восседают горделиво и грациозно две зверюшки с хитрыми мордочками, светлой шерстью и кичливо пушистыми хвостами. Не в силах оторвать от них глаз, наш огромный, неуклюжий праотец припускается что есть духу вдоль берега следом за ними. И глаза его горят, словно он уже успел разгадать хитрость этих зверюшек, приспособивших ствол для путешествия по райской реке в приятной вечерней прохладе.