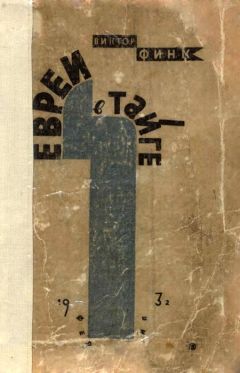Мне очень, признаться, нравился такой дальнозоркий оптимизм. Я с удовольствием слушал этого переселенца, который обещал рассказать о непорядках, т. е. жаловаться, а вот не жалуется. Такие встречаются не каждый день.
С не меньшим оптимизмом перешел он и ко второму бичу биробиджанских колонистов — к пресловутому «гнусу». Под этим названием здесь, — объяснял он, — функционирует целый «трест» невыносимых насекомых: оводы, комары и мошкара. Я даже не знаю, как описать это несчастье. У людей распухают руки и лица от комаров. Переселенка показывала мне младенца, все тело которого было покрыто волдырями и струпьями от «гнуса». Комары вьются в воздухе столбами, как смерч, тучами. Еще страшней таежная мошкара. На охоте в тайге я несколько дней не мог умыться: было страшно поднять сетку, которой закрыто лицо. Охотник-казак, бывший со мной, забыл взять сетку и закрыл себе лицо портянкой. Конь, стараясь укрыться от мошки, уходит даже стреноженным, так что его и не найти. Лось влезает в воду всем корпусом, — только ноздри торчат. Медведь прячется на деревьях.
А человек почти не имеет средств борьбы с гнусом. Дым, правда, помогает, но не очень. Спят на чердаках, — это легче: гнус не залетает высоко. Но спать круглые сутки нельзя. Надо сходить вниз, а внизу погибель, внизу дымом вьется и стелется едкая гадина. Сознаюсь откровенно, знакомство с ней заставило меня очень испугаться за будущее биробиджанской колонизации, и я высказал это моему спутнику.
— Вам страшно, — сказал он, — потому что вы не видели, что было в прошлом году. В прошлом году было хуже. Но гнус отступает от человека. Вот заметьте, как он работает в тайге и в деревне как он работает. Где люди живут, где трава выкошена, — оттуда он уходит.
Эти объяснения я выслушивал очень недоверчиво: мы как раз въехали в тучу комаров. Я быстро натянул кожаные перчатки, опустил сетку, задымил трубкой — и все же сразу почувствовал зуд во всем теле. Меня поразило спокойствие спутников. Не без того, — они отчетливо ругались русскими словами, но делали это, не выходя из себя.
— Первое имейте в виду, — наставительно продолжал еврей, — что гнус от человеческого жилья отступает. А второе имейте в виду, что человек к гнусу привыкает.
Этому я совсем уж не поверил и не верил до тех пор, покуда не приехал в еврейский поселок Амурзет на Амуре. Я с непривычки надевал сетку, едва выходя на улицу, и то мне казалось, что комары меня заедят насмерть, а местные девицы щеголяли в коротких юбках и в платьях без рукавов, — так с голыми руками и ходили, и хоть бы что! Мой сложный накомарник с медной сеткой изрядно веселил их.
— За гнус чтобы вы не слушали и не верили: это чистый ничего, — говорил Аврум-Бэр. — Если нет порядка, то не гнус виноват и не дождь.
— В чем же, наконец, непорядки?
Он отмахнул дым и взглянул на меня каким-то странным взглядом.
«А стоит ли тебе и рассказывать? — как бы спрашивал он. — Быть может, для тебя это так-себе, дорожный разговор от скуки? Тогда ну тебя к чорту! Для нас это вопрос нашей будущей жизни».
Очевидно, какой-то экзамен я выдержал, и Аврум-Бэр решил говорить.
— Вы хорошо присмотрелись до Бирефельда? — спросил он. — Вы все видели?
Кажется, присмотрелся. Как будто видел. Бирефельд строится на месте заброшенной старожильческой деревушки Александровки. От нее сохранилось одно-два старых здания, и вокруг них возводится еще 30–40 домов. Строительство здесь дается очень трудно, так как доставлять материал приходится с далекого пункта и по очень плохой дороге.
Однако строительство все-таки ведется. В Бирефельде образованы курсы еврейских строительных рабочих. Учась, они строят.
Правда, мне было не совсем понятно, почему для нового строительства выбрали пункт, отстоящий на пятьдесят километров от железной дороги. Колонизационная практика всего мира уже давно осудила такие приемы колонизации.
Даже Кузьма Прутков авторитетно указывал, что «никто не может объять необъятное».
План колонизации Биробиджана вызывает недоумение у всякого, кто попал в этот край.
— Так чтобы вы знали, что Бирефельд придется перенести с того места, — сказал Аврум-Бэр.
Я не понял.
— Почему это?
— А просто через то, что старожилы недаром кинули это место: там вода плохая, негодная, и мало. Так пришли наши озетовцы и схопились, что от старожилов осталась хата и сарай, и стали строить дальше. Так они строят и строят и строят… И уже целая деревня построена. А когда построена деревня и сельсовет, и школа, и больница, так теперь схопились, что нет воды и что отседова надо уходить. Через то и старожилы разбеглись. Вода за две версты. Вы знаете, что значит в Биробиджане две версты? Это надо утром выехать с ведром и утром вернуться.
История показалась мне слишком глупой, чтобы быть правдивой. Увы, я выяснил впоследствии, что все это чистейшая правда. Строительство Бирефельда было начато без изучения местности, на «авось». Отсутствие питьевой воды выяснилось уже после возведения нескольких десятков построек.
Как это могло случиться? Но этот вопрос заводит очень далеко — в самую гущу того, что называется организационными неполадками и неувязкой.
Когда наша беседа дошла до вопроса о строительстве, трактор остановился. Он стоял, погруженный почти по самый кузов в топь.
45-сильный «Клетрак» застрял, не в силах вытащить две наших жалких телеги. Сколько ни пыхтела машина, сколько ни ловчились трактористы— ничего не выходило, трактор не трогался с места. Пришлось отцепить заднюю телегу и разгрузить переднюю. Рискуя совершенно погубить машину, трактористы двинулись и с трудом провезли одну повозку. Достигнув более твердого грунта, они ее отцепили и поехали за второй. Мы же, утопая в грязи выше колен и держа свои вещи на плечах, прошли пешком.
Около четырех часов дня мы добрались до барака, стоящего на 22-м километре. Здесь тракторист снова объявил ночлег.
— Если вечером поехать — погибнешь, — сказал он.
Отогреваясь у раскаленной железной печки, мы хлебали суп, приготовленный сторожихой. Аврум-Бэр пришел в благодушное настроение. Он улыбнулся каким-то своим мыслям и спросил меня:
— А вы в Амурзете были?
Я был там. Я плавал по Амуру в теплые летние дни. Однажды утром я увидел китайскую крепость Лахасусу у впадения Сунгари в Амур. В устье Сунгари дымил китайский крейсер, — это было во время конфликта. Китайские крестьяне, купцы, солдаты и детишки выбегали глазеть на нас в каждой деревушке, мимо которой мы проезжали. Промелькнули и русские станицы. А днем на советском берегу показалось новенькое село. Всего было возведено тогда несколько домиков.
— Еврейский город! — сказал мне капитан. — Видите, как ловко? Чуть не вчера была пустыня, а вот новый городок строится!
Домики привлекали свежей и игривой новизной. В бинокль были видны люди на берегу, сельскохозяйственные машины, два трактора. Строилась жизнь в тайге и пустыне. Вот оно куда забросило евреев из местечка!..
— И к тому же, заметьте — казаки и евреи рядом! — сказал капитан. — Это как в писании сказано: «И возлягут»… Вот не вспомню, кто возляжет. Словом, что-то вроде — мечи на орала.
Капитан был в евангелии нетверд. Я, впрочем, догадывался, что он хотел сказать. Мне тоже казалось необычным это мирное соседство. Давно ли слово «казак» наводило панику на еврейской улице?
— Это и есть революция, капитан! — заметил я. — Она во всем сказывается.
— Уж это да! Как говорится, до кости проняла, — согласился капитан…
— Да, Аврум-Бэр, я был в Амурзете.
— А скачки вы видели? — ехидно улыбаясь, спросил Аврум-Бэр.
Ах, скачки! Это нечто анекдотическое! У него положительно злой ум, у Аврум-Бэра!
В Амурзете, в день закладки, были устроены конские состязания. На большом плацу евреи, только что прибывшие из местечка, скакали верхом на клячах с обвислыми животами. Евреи взмахивали локтями, причмокивали, били коней пятками и даже гикали. Они скакали, и кто-то доскакал первым. Он взял приз. Возможно, что это была осьмуха полукрупки «Золотая рыбка». Неважно. Важно, что скакали.
Многие, рассказывая об этом, держались за бока от смеха.
Знакомый казак, очевидец этого зрелища, ничего не хотел мне рассказать о нем. Он как докуривал цыгарку, так, бросив окурок, махнул рукой и отвернулся.
А мне эта затея понравилась. Чем хуже скакали евреи, тем важней было устроить для них состязание. Вот они приехали из ясных украинских равнин к подножию мрачного Хингана. Скорей на конь — и вскачь! Они покинули местечко — отчизну грыж и гемороя. На конь и вскачь! Из «людей воздуха» они должны сделаться людьми земли. Так — на конь и вскачь! Вскачь! Вскачь!
— Аврум-Бэр! Вы хотите сказать, что казаки смеялись? Мы уже видели, как в Крыму и на Украине крестьяне смеялись над евреями-земледельцами, а через год-два приходили к ним за советами и хозяйственными указаниями. Казаки скачут на лошадях свыше трехсот лет. Они скачут лучше евреев. Но евреи тоже должны научиться скакать и научатся. Это пустяки, что казаки смеются.