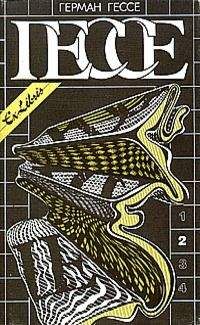А тот, кто наблюдал за мной и другими, за всем происходящим, за скучливо жующим Гессе, скучливо жующими постояльцами гостиницы, был не курортник и ишиатик Гессе, а старый довольно-таки неприязненно относящийся к обществу отшельник и чудак Гессе, старый любитель странствий и поэт, друг бабочек и ящериц, древних книг и религий, тот Гессе, который решительно и твердо противопоставлял себя миру и которому мучительно было идти к властям за удостоверением о гражданстве или даже просто заполнить листок переписи. Этот старый Гессе, это в последнее время несколько отдалившееся и утраченное «я», вдруг снова пожаловал и наблюдал за нами. Он видел, как курортник Гессе безо всякого аппетита, нехотя ковыряя вилкой, разделывал прекрасную рыбу и, не испытывая голода, тем не менее кусок за куском отправлял в недовольно кривившийся рот; он видел, как тот безо всякой необходимости и безо всякого смысла передвигал с места на место стакан и солонку и то вытягивал, то подбирал ноги под стул; как другие постояльцы поступали совершенно так же, как метрдотель и хорошенькие девушки-официантки внимательно и заботливо обслуживали и кормили этих скучающих людей, хотя никто из них не был голоден, и как снаружи, за торжественно-высокими сводчатыми окнами зала в другом мире, по небу проплывали облака. Все это тайный наблюдатель видел, и внезапно зрелище это показалось ему ужасно странным, нелепым и комическим или даже жутковатым, какой-то пугающий, застывший кабинет восковых фигур нереально существующих людей, — этот скучный, без аппетита обедающий Гессе, эти скучные его сотрапезники. До чего же смехотворным, до чего же дурацким был этот исполненный бессмысленной торжественности спектакль, вся эта уйма пищи, фарфора и хрусталя, вина, хлеба, прислуги — и все для горстки давно сытых курортников, чью скуку и хандру не могли исцелить ни еда, ни питье, ни вид плывущих в вышине облаков.
Но только курортник Гессе поднял стакан, просто так, со скуки, поднес ко рту и даже как следует не отхлебнул, добавив ко всем нерешительным и машинальным призрачным жестам трапезы еще один, как произошло слияние обоих «я», обедающего и наблюдающего, и мне пришлось поспешно поставить стакан, такое меня разобрало изнутри внезапное желание расхохотаться, чисто детская веселость, внезапное понимание безмерного идиотизма всего происходящего. На какой-то миг мне представилось, что в этом зале, полном больных, скучающих, изнеженных и вялых людей (причем, по моему предположению, в их душах творилось то же, что и в моей), как в зеркало, отражена вся наша цивилизованная жизнь, жизнь без сильных побуждений, принудительно катящаяся по установленным рельсам, безрадостная, лишенная всякой связи с богом и с облаками на небе. Я подумал о сотнях тысяч кафе с закапанными мраморными столиками и сладкой, переперченной, будящей похоть музыкой, о гостиницах и конторах, обо всей архитектуре, музыке, привычках, в которых живет нынешнее человечество, и все показалось мне сходным по значению и ценности с ленивым ковырянием праздной моей руки рыбной вилкой, с неудовлетворенным, пустым блужданием моего равнодушного взгляда по залу. Но всё вместе, столовая и наш мир, курортники и человечество, показалось мне на какой-то миг отнюдь не ужасным и трагическим, а всего лишь невероятно смешным. Достаточно лишь засмеяться — и чары рассеются, вся хитрая механика рассыплется, и бог, и птицы, и облака поплывут сквозь скучный наш зал, а мы из угрюмых постояльцев за курортным столом, обратимся в веселых постояльцев господа за красочным столом вселенной.
Поспешно поставил я, как уже говорилось, в эту секунду стакан, такой меня разбирал и тряс изнутри смех. Мне стоило большого труда этот смех обуздать, не дать ему вырваться. Ах, как часто случалось с нами в детстве, сидишь где-нибудь за столом, где-нибудь в классе или в церкви и по самый нос и глаза заряжен сильнейшим, законнейшим желанием рассмеяться, а смеяться нельзя, и ты как-то должен со смехом справиться, из-за учителя, из-за родителей, из-за порядка и правил. Неохотно верили и повиновались мы этим учителям, этим родителям, и нас очень удивляло и продолжает удивлять, что для подкрепления своих порядков, вероучений и нравоучений они в качестве авторитета ссылались на того самого Иисуса, который как раз детей-то и назвал безгрешными. Неужели же он имел в виду только примерных детей?
Но и на сей раз мне удается с собой справиться. Я сижу тихо, и ощущаю только, как мне распирает горло и щекочет в носу, и страстно ищу какую-нибудь отдушину или выход, дозволенный и приемлемый выход тому, что меня душит. Может, легонько ущипнуть за ногу метрдотеля, когда он опять пройдет мимо меня, или обрызгать водой из стакана официанток? Нет, нельзя, все под запретом, та же история, что и тридцать лет назад.
Пока я так размышлял и смех подбирался мне к самой гортани, глаза мои были устремлены прямо перед собой на соседний столик и в лицо незнакомой женщины, седовласой, болезненного вида дамы; рядом с ней к стенке была прислонена палка, а она развлекалась тем, что крутила кольцо от салфетки, так как ждали следующего блюда и каждый прибегал к привычному средству, чтобы заполнить паузу. Один увлеченно читал старую газету; видно было, что он давно изучил ее от корки до корки и тем не менее он со скуки в который раз проглатывал сообщение о болезни господина президента и отчет о деятельности ученой комиссии в Канаде. Сидящая неподалеку старая дева размешивала два порошочка в стакане — лекарство, чтобы принять его сразу же после еды. Она немного напоминала одну из тех устрашающих пожилых дам в сказках, которые намешивают волшебное зелье во вред другим, более привлекательным особам. Элегантный и утомленный с виду господин, будто сошедший со страниц романа Тургенева или Томаса Манна, с грустным изяществом рассматривал один из стенных ландшафтов. Всех более мне еще понравилась, пожалуй, наша великанша: держась безукоризненно прямо и в хорошем настроении, как почти всегда, она сидела перед пустой тарелкой и не выглядела ни злой, ни скучающей. Зато строгий добродетельный господин с морщинами и крепкой шеей восседал на стуле, словно целый суд присяжных, и строил такое лицо, будто только что приговорил к смертной казни собственного сына, тогда как всего-навсего съел перед тем полную тарелку спаржи. Господин Кессельринг, наш розовый паж, и сегодня выглядел все таким же возвышенным и розовым, хоть и несколько постаревшим и подзапылившимся; видимо, ему сегодня нездоровилось, и ямочка на его младенческой щеке казалась сейчас столь же невероятной и неуместной, как и пачка пикантных открыток в его нагрудном кармане. Как все это было странно и нелепо! Почему мы все бездеятельно тут сидим, ждем и склабимся? Почему едим и ждем следующего блюда, когда давно сыты? Почему Кессельринг приглаживает свою поэтическую шевелюру крохотной карманной щеточкой, почему носит те идиотские открытки в кармане и почему карман этот подбит шелком? Все было так необъяснимо и неправдоподобно. И все чудовищно смешно.
Итак, я уставился в лицо старой дамы. И тут она вдруг отложила кольцо от салфетки и посмотрела на меня, и пока мы друг на друга пялились, смех добрался до моего лица, и я ничего не мог поделать, я дружелюбнейше ухмыльнулся даме всем скопившимся во мне смехом, и он растянул мне губы и брызнул из глаз. Что она обо мне подумала — не знаю, но реагировала она превосходно. Сперва она быстро опустила веки и поспешно опять взяла в руку свою игрушку, но лицо ее утратило спокойствие, и под моим любопытным взглядом оно все больше и больше дергалось и кривилось самыми причудливыми гримасами. Она смеялась! Гримасничая и давясь, она боролась с приступом смеха, которым я ее заразил! И так мы сидели оба, в представлении других постояльцев почтенные пожилые люди, сидели, будто два школьника за партами, глядели прямо перед собой, косились друг на друга, и лица у нас дергались и морщились от мучительного усилия совладать со смехом. Двое-трое из обедающих это заметили и тоже стали весело и несколько насмешливо улыбаться; и тут, словно разбили оконное стекло и к нам влилось бело-голубое небо, по всему залу на несколько минут распространилось радостно-насмешливое настроение, эдакая ухмылка, словно каждый вдруг тоже заметил, до чего тупоумно и идиотски мы сидим в своей курортной важности и хмурой скуке.
С этой минуты мне снова стало хорошо, я уже не просто курортник, специализировавшийся на своей болезни и лечении, а болезнь и лечение вновь стали чем-то второстепенным. Больно мне по-прежнему, тут никуда не денешься. Ну и бог с ним, что больно; я предоставляю болезнь самой себе, не для того же я существую, чтобы весь день с ней нянчиться.
После обеда со мной заговорил один из наших постояльцев, весьма мне несимпатичный господин с обилием мнений, который уже неоднократно предлагал мне газеты и навязывался с разговорами; еще недавно в длиннейшей и скучнейшей беседе о школьном образовании и воспитании я безоговорочно и малодушно вторил всем его испытанным принципам и мнениям. И вот он опять ко мне направлялся, этот тип, из обычной своей засады в коридоре и заступил мне дорогу.