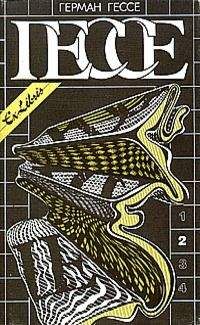Как шумел подо мной в каменистом ложе поток, как пело полуденное солнце, пробегая вверх и вниз по пятнистым стволам платанов! Как хорошо жить! Прошло и забыто напавшее на меня в столовой безумное желание смеяться, в глазах у меня стояли слезы, вещим напоминанием звучал для меня шум священной реки, и сердце мое было исполнено мира и благодарности. Лишь теперь, после долгой прогулки под платанами, мне открылась вся бездна ипохондрии и путаницы, страданий и глупости, в которой я жил все последнее время! Господи, какое жалкое зрелище я собой представлял, как мало требовалось, чтобы превратиться в омерзительного, малодушного труса! Небольшое недомогание и боли, две-три недели курортной жизни, период бессонницы, и вот уже я по горло увяз в хандре и отчаянии. И это я, слышавший голоса индусских богов! Как хорошо, что злые чары наконец рухнули, что меня опять окружает воздух, солнечный свет и действительность, что я опять слышу божественные голоса, опять чувствую в сердце любовь и благоговение!
Внимательно перебрал я в памяти эти унизительные дни, расстраиваясь и дивясь, печалясь, но и посмеиваясь над всей той чепухой, что меня опутала. Нет, теперь мне незачем больше ходить в курзал и даже в столь исполненный достоинства игорный зал; теперь я не затруднял себя вопросом, куда употребить свое время. Чары рассеялись.
И когда я сейчас, всего за несколько дней до конца лечения, задумываюсь над тем, как же это могло случиться, когда ищу причину своего падения и всех постыдных своих переживаний, мне достаточно прочесть любую страницу этих записок, чтобы ясно увидеть причину. Не мои фантазерство и мечтательность, не мой недостаток морали и буржуазности были в том повинны, а как раз напротив. Я именно был чересчур морален, чересчур разумен, чересчур буржуазен! Старая вечная моя ошибка, которую я сотни раз совершал и всегда горько в ней раскаивался, приключилась со мной и на сей раз. Я хотел подладиться под норму, хотел выполнить требования, которые никто мне не ставил, хотел быть или представиться тем, кем вовсе не был. Вот и получилось снова, что я совершил насилие над собой и над жизнью.
Хотел быть тем, чем не был. Каким образом? Я сделал из своего ишиаса специальность, играл роль ишиатика, курортника, подлаживающегося под буржуазное окружение постояльца гостиницы, вместо того чтобы просто оставаться самим собой. Я придал чрезмерное значение Бадену, лечению, окружающей меня среде, болям в суставах; я вбил себе в голову претерпеть этот курс лечения и непременно выздороветь. Путем покаяния, епитимьи, ханжества, посредством ванн и омовений, врача и браминских чар я хотел достичь того, что может быть достигнуто лишь путем озарения.
Вечно со мной та же история. И эта знаменитая ванная психология, которую я себе придумал, лежа в теплой воде, — тоже такой фокус, попытка мысленно овладеть жизнью; она неизбежно должна была кончиться провалом и за себя отомстить. Никакой я не представитель некоей особой философии ишиатиков, как одно время воображал, да такой философии и не существует вовсе. И нет также мудрости пятидесятилетних, о которой я фантазировал в предисловии. Возможно, мое нынешнее мышление несколько отличается от свойственного мне лет двадцать назад, но чувства и сущность, желания и надежды не изменились, не стали ни умнее, ни глупее. Сейчас, как и тогда, я могу быть то ребенком, то стариком, то двухлетним, то тысячелетним. И мои попытки подладиться к нормированному миру, изображать пятидесятилетнего ишиатика остались столь же бесплодны, как и моя попытка примириться с ишиасом и Баденом посредством моей психологии.
Есть два пути ко спасению: путь праведности для праведников и путь благодати для грешников. А я, грешник, опять совершил ошибку, попытавшись достичь чего-то праведностью. Никогда у меня ничего с ней не получится. Бальзам для праведников, для нас, грешников, праведность — яд, она нас озлобляет. Видно, мне суждено опять предпринимать такие попытки, делать такие промахи, так же как в духовной области мне, писателю, суждено всякий раз наново пытаться овладеть миром не силой искусства, а мыслью. Опять и опять отправляюсь я в эти дальние и трудные одинокие путешествия, настойчиво пытаюсь чего-то достичь разумом, и всегда это кончается болью и потерянностью. Но всегда за этой смертью вновь рождаешься на свет, всегда на меня нисходит озарение, и боль и потерянность уже переносимы, блуждания были не напрасны, поражения были драгоценны, ибо они отбросили меня на лоно матери, вновь дали мне возможность испытать озарение.
Итак, я прекращаю читать себе мораль, не стану хулить свои умозрительные и психологические попытки, свои попытки вылечиться, поражение и подавленность, не стану ни о чем жалеть и не стану больше обвинять себя. Все было к лучшему. Я вновь слышу голос божий, все хорошо.
Когда я сейчас оглядываю свой 65-й номер, со мной творится что-то странное; при мысли о близком расставании я испытываю к этой комнате какую-то нежность, и расставанье заранее причиняет мне боль. Как часто я здесь, за этим самым столиком, исписывал страницу за страницей, иногда с радостью и сознанием того, что я делаю нечто ценное, иногда, впав в уныние и неверие и все же полностью отдаваясь работе, пытаясь понять и объяснить или хотя бы чистосердечно исповедаться! Как часто я в этом кресле читал Жан-Поля! Сколько часов и ночей провел без сна на этой кровати в алькове, погруженный в себя, споря с собой, оправдываясь, воспринимая себя и свои страдания как притчу, как ребус, смысл и разгадка которых мне когда-нибудь непременно откроются! Сколько писем я здесь получил и написал, писем от незнакомых и к незнакомым, которым мое отраженное в книгах «я» показалось родственным, которые в вопросах и утверждениях, обвинениях и исповедях человеку, показавшемуся им родственным, искали того же, что и сам я ищу в своих признаниях и творчестве: ясности, утешения, оправдания и новой радости, новой чистоты, новой любви к жизни! Сколько мыслей, сколько настроений, сколько грез посетили меня в этой комнате! Здесь, пересиливая хмурую утреннюю разбитость, я заставлял себя встать, чтобы принять ванну, и в ноющих, негнущихся суставах заранее предчувствовал смерть, различал пугающие знаки бренности; здесь я во многие хорошие вечера фантазировал или сражался с голландцем. Здесь, в тот счастливый день, прочел своей возлюбленной предисловие к «Психологии» и видел, как ее обрадовала маленькая почесть, оказанная Жан-Полю, которого и она очень любит. И ведь в конце-то концов время, проведенное в Бадене, это лечение, этот кризис, потеря и обретение внутреннего равновесия были для меня важным этапом.
И как жаль, что я не сумел полюбить эту гостиничную комнату и к ней привязаться еще три или четыре недели назад! Но тут ничего уже не поделаешь. Хорошо, что я хотя бы сейчас оказался способен принять и полюбить эту комнату и гостиницу, голландца и лечение и сроднился с ними. Теперь, когда срок моего пребывания в Бадене подходит к концу, я вижу, что здесь, в Бадене, совсем неплохо. Мне кажется, я мог бы месяцами здесь жить. Да мне, собственно, и следовало бы — хотя бы чтобы загладить многое из того, что я здесь нагрешил против себя, против разума, против курортной жизни, против своих соседей по комнате и по столовой. Разве в некоторые особенно пессимистические дни я не сомневался даже в докторе, в искренности его заверений, в цене надежд, которые он мне подавал? Нет, многое следовало бы тут загладить. И что, например, давало мне право возмущаться тайной картинной галереей господина Кессельринга? Что я за моралист такой? Словно у меня самого нет собственных причуд, которые тоже не всякий одобрит? И почему я усмотрел в том добродетельном господине с морщинами непременно буржуа, эгоиста и самонадеянного судью над другими? Я совершенно так же мог бы сделать из него римлянина, стилизованного под монумент трагического героя, гибнущего от собственной твердости, страдающего от собственной справедливости. И так далее; надо бы загладить сотни упущений, покаяться в сотнях грехов, d сотнях жестокостей — если б я только что не покинул этот путь и не предоставил все озарению. Так что пусть грехи так и остаются грехами, и будем рады, если нам посчастливится в ближайшее время не нагромоздить новых!
Склоняясь еще раз над бездной прошедших недобрых дней, я вижу в глубине, совсем далеким и крохотным, призрачное видение: курортник Гессе, бледный и скучный, с брезгливой миной сидит за трапезой, бедняга, лишенный юмора и фантазии, серый от недосыпания, равнодушный, больной человек, который не только не держит в узде свой ишиас, а сам им одержим. Содрогаясь, я отворачиваюсь, довольный, что бедняга этот наконец умер и никогда уже мне больше не встретится. Мир праху его!
Если воспринимать евангельские речения не как заповеди, а как выражения необычайно глубокого знания тайн человеческой души, то мудрейшее из всего когда-либо сказанного, суть всей жизненной мудрости и учения о счастье, заключена в словах: «Люби ближнего твоего, как самого себя!», встречающихся уже и в Старом завете. Можно любить ближнего меньше самого себя — тогда ты эгоист, стяжатель, капиталист, буржуа, и хотя можно стяжать себе деньги и власть, но нельзя этого делать с радостным сердцем, и тончайшие и самые лакомые радости души будут тебе заказаны. Или же можно любить ближнего больше самого себя — тогда ты бедолага, проникнутый чувством собственной неполноценности, стремлением любить все и вся и, однако же, полный терзаний и злобы на себя самого и живешь в аду, где сам же себя день за днем и поджариваешь. И как прекрасно, напротив, равновесие в любви, способность любить, не оставаясь в долгу ни тут, ни там, — такая любовь к себе, которая ни у кого не украдена, такая любовь к другому, которая, однако же, не ущемляет и не насилует собственное «я»! Тайна истинного счастья, истинного блаженства заключена в этом речении. А если хочешь, можно повернуть его и на индусский лад и толковать так: люби ближнего, ибо это ты сам! — христианский перевод изречения «tat twam asi».[24]Ах, истинная мудрость так проста, была уже так давно, так точно и недвусмысленно высказана и сформулирована! Почему же она нам доступна только временами, только в хорошие дни, а не всегда?