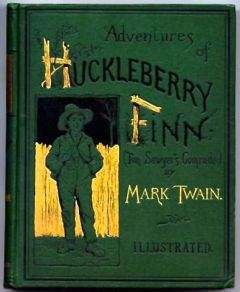− И потому убийцу всегда оправдывают, а после, ночью, к нему приходит мужчина, за которым плетется сотня трусов в масках, и линчует мерзавца. Ваша ошибка в том, что вы не прихватили с собой мужчину, это во-первых, а вторая ошибка — вы пришли не в ночное время и пришли без масок. Правда, вы привели с собой мужчину половинного — Бака Харкнесса, вон он стоит, − если бы он вас не подначивал, вы бы одним только криком и ограничились.
− Вам же и идти-то сюда не хотелось. Средний человек не любит хлопот и опасностей. И вы не любите хлопот и опасностей. Но когда всего лишь половинка мужчины вроде Бака Харкнесса начинает орать: «Линчуем его! Линчуем!», вы не решаетесь отступиться, опасаясь, что все поймут, кто вы, на самом деле, такие — трусы, − и поднимаете крик, и цепляетесь за фалды полумужчины, и приходите, беснуясь, сюда, и клянетесь, что сейчас вы такое учините — небесам жарко станет. Нет на свете ничего презреннее толпы; и что такое армия, как не толпа? Солдаты идут в бой не из врожденной храбрости, но из той, которую внушает им мысль, что их много, и той, какую они перенимают у своих офицеров. Однако толпа, которую не возглавляет мужчина, не заслуживает и презрения. И теперь самое для вас лучшее — это поджать хвосты и расползтись по вашим норам. А если вы и вправду решите кого-нибудь линчевать, так приходите ночью, как это принято у южан, приходите в масках и приведите с собой мужчину. И потому идите прочь — и половинку мужчины с собой заберите.
Он умолк, поднял перед собой левую руку, положил на нее двустволку и взвел курки.
Толпа отпрянула, начала распадаться, люди побежали кто куда, и Бак Харкнесс за ними, и выглядел он довольно жалко. Я мог бы и остаться, да что-то не захотелось.
Я пошел к цирку, побродил вокруг него, а когда сторож куда-то отлучился, нырнул под край шатра. У меня была при себе двадцатидолларовая монета и еще кой-какие деньги, но я решил сэкономить — мало ли когда они мне могут понадобиться, я ж и от дома далеко, и люди кругом сплошь чужие. Осторожность, она никогда не повредит. Я могу потратиться на цирк, если другого выхода нет, однако сорить деньгами — это уж нет, извините.
Цирк оказался первостатейный. Такое получилось роскошное зрелище, когда все артисты выехали на лошадях — попарно, джентльмен, а с ним леди, − мужчины в одних подштанниках и нижних рубашках, босые, без стремян и руками в бока упираются легко и свободно — человек двадцать их было, − а леди все румяные, одна другой краше, королевы да и только, платье каждой миллионы долларов стоит, никак не меньше, да еще и брильянтами обсыпано сверху донизу. Очень изысканная вышла картина, отродясь ничего красивей не видел. А после они друг за дружкой встали на седла и закружили по арене, покачиваясь плавно и грациозно, мужчины были все как один рослые, ловкие, осанистые, они кланялись во все стороны и головами только что потолка шатра не касались, а платья женщин, легкие, как розовые лепестки, шелковистые, плескались над их бедрами и каждая выглядела, как самый распрекрасный зонтик.
Они кружили все быстрее, быстрее, и пританцовывали, то одну ногу выбросят перед собой, то другую, лошади почти уж распластались по арене, распорядитель бегал вокруг центрального столба и кричал: «Гип! Гип!», а клоун кривлялся за его спиной; в конце концов все наездники побросали поводья, леди уперлись ручками в бока, джентльмены скрестили руки на груди, а лошади вдруг встали, склонились и опустились на передние колени! И наездники один за другим соскочили с них на арену и отвесили публике самый изысканный поклон, какой я когда-либо видел, а после убежали, и публика захлопала в ладоши и завопила что было сил.
Вот, а после нам стали показывать самые настоящие чудеса, а клоун все это время такие шуточки откалывал, что зрители чуть не померли со смеху. Распорядитель ему слово, а клоун в ответ пять — и быстро, моргнуть не успеешь, и смешно до ужаса; уж и не знаю, как ему столько всего остроумного в голову приходило, да еще и в единый миг, и каждое слово к месту, я и поныне понять не смог, как оно у него получалось. Я бы, наверное, год тужился, а все равно ничего похожего не выдумал бы. Ну, тут на арену выскочил какой-то наклюкавшийся дядька и говорит, что он тоже хочет на лошади прокатиться, он, дескать, умеет это не хуже прочих. Циркачи заспорили с ним, попытались выставить на улицу, а он ни в какую, так что пришлось им представление прервать. Зрители орут на него, издеваются, а он разозлился, просто рвать и метать начал, люди, понятное дело, осерчали, кое-кто со скамеек повскакал и на арену полез, крича: «Дайте ему по зубам! вышвырните его!», а парочка женщин уже визжать начала. Но тут распорядитель сказал небольшую речь, он, дескать, надеется, что никаких беспорядков никто учинять не станет, и если этот джентльмен пообещает больше не безобразничать, ему позволят прокатиться на лошади, все равно ж он в седле и минуты не продержится. Все захохотали и согласились с распорядителем, и для этого дяденьки вывели на арену лошадь. Стоило ему взобраться на нее, как лошадь принялась брыкаться, и курбеты выделывать, и двое служителей вцепились в ее уздечку, чтобы она пьянчугу не сбросила, а тот обхватил лошадь обеими руками за шею, и при каждом ее скачке у ноги него аж в воздух взлетали, ну а зрители повскакали с мест, вопят и хохочут так, что у них слезы льют по щекам. Конечно, удержать лошадь служители не смогли, и она опрометью понеслась по арене, а забулдыга болтается у нее на шее, то с одной стороны свалится, так что у него ноги по земле волочатся, то с другой, — публика уже с ума почти посходила. Мне-то смешно не было, я весь дрожал от страха за дурака. Но скоро он все-таки ухитрился усесться в седло и поводья ухватить, хоть и качался по-прежнему из стороны в сторону; а потом вдруг поводья бросил, да как подскочит — и встал на седле! Лошадь так и несется во весь опор, точно из горящей конюшни спасается. А он стоит себе и стоит, и до того привольно, точно в жизни своей к рюмке не прикладывался, а после начал снимать с себя одежду и отбрасывать ее. И так быстро, что одна еще по воздуху летит, а он уж другую сдирает — всего их на нем семнадцать штук оказалось, не считая последней. Ну и вот, смотрим, стоит он в седле, стройный, симпатичный, в таком ярком и красивом наряде, какой вам и во сне не приснился бы, а после ударил лошадь хлыстиком, и она остановилась, и на колени встала, и он соскочил на арену, поклонился, и ушел за кулисы, а публика аж взвыла от восторга и удивления.
Тут-то распорядитель понял, конечно, что его вокруг пальца обвели, и до того расстроился, что смотреть было жалко, ей-богу. Это ж один из его артистов был! Придумал всю шуточку сам и слова о ней никому не сказал. Я-то себя тоже дураком чувствовал оттого, что на нее попался, но оказаться на месте распорядителя и за тысячу долларов не согласился бы. Не знаю, может и есть на свете цирки лучше того, но мне они пока что не попадались. По мне, так и этот достаточно хорош, если я его еще где увижу, ни одного представления не пропущу.
Ну вот, а вечером и мы дали представление, однако на него от силы дюжина людей пришла — расходы мы покрыли, но и только. И они все время гоготали, герцог просто на стену лез от злости, да и разбрелись еще до окончания — все, кроме одного мальчишки, который заснул в зале. Герцог сказал, что арканзасские обалдуи не доросли до Шекспира, им подавай низменную комедию — если не чего похуже, так он это понимает. Ладно, говорит, придется приладиться к их вкусам. И на следующее утро он разжился где-то большими листами оберточной бумаги и черной краской и нарисовал несколько афиш, которые мы расклеили по городку. Афиши были такие:
В ЗДАНИИ СУДА!
Всего 3 спектакля!
Всемирно известные трагики
ДЭВИД ГАРРИК МЛАДШИЙ!
и
ЭДМУНД КИН СТАРШИЙ!
Из лондонских и континентальных
театров
в их душераздирающей трагедии
ЦАРСТВЕННЫЙ КАМЕЛОПАРД,
или
КОРОЛЕВСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО!
Вход 50 центов.
А внизу приписка:
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!
− Ну вот, − сказал герцог, − если их и эта приписочка не проймет, значит, я не знаю, что такое Арканзас!
Глава XXIII
Королевское непотребство
Ну вот, весь этот день король усердно трудился, прилаживая занавес, прибираясь на сцене и расставляя свечи вдоль ее края — это называется рампа; а к ночи в зал мигом набились мужчины. Когда ни одного свободного места в нем не осталось, герцог перестал продавать билеты и прошел от двери зала за кулисы, а после вышел на сцену, встал перед занавесом и произнес короткую речь, расхвалив в пух и прах трагедию, самую, дескать, душераздирающую из всех, когда-либо сочиненных, ну и так далее, — сначала он распространялся о трагедии, а потом об Эдмунде Кине Старшем, которому предстоит сыграть в ней самую главную роль, и, как следует разогрев публику, поднял занавес, и на сцену сразу же выскочил, гарцуя на четвереньках, король — совершенно голый; и весь он был размалеван похожими на обручи полосками самых разных цветов — ни дать, ни взять радуга. И… нет, обо всем остальном я рассказывать не буду — чушь полная, но дико смешная. Зрители помирали от хохота, а когда король ускакал за кулисы, взревели, захлопали в ладоши, затопали ногами, заулюлюкали и не успокоились, пока он не вернулся и не проделал все еще раз, а там и еще. Ну, должен вам сказать, увидев штуки, которые выделывал старый идиот, и корова покатилась бы со смеху.