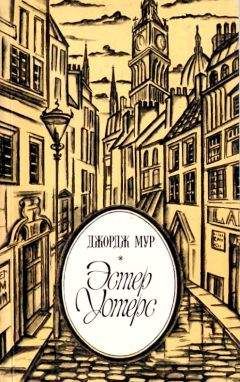Шел уже девятый день, но Эстер поправлялась очень медленно, и было решено продержать ее в больнице еще дней десять. Эстер знала, что стоит только ей ступить ногой за порог больницы, и ее спокойной жизни придет конец, и, прислушиваясь к неумолчному шуму, доносившемуся с улицы, она испытывала страх. Часами она думала о своей бедной матери и томилась без вестей из дому. Когда ей сказали, что ее пришла проведать сестра, лицо у нее вспыхнуло от дурного предчувствия.
— Что случилось, Дженни? Маменьке плохо?
— Мама умерла. Я пришла сообщить тебе об этом. Я бы пришла раньше, да только…
— Мама умерла? О нет, нет, Дженни! Не может быть! Наша бедная мама!
— Да, Эстер, она умерла. Я знала, что ты страшно расстроишься, мы все тоже очень расстроены. Она умерла уже несколько дней назад, а я пришла, чтобы сказать тебе…
— Как так, Дженни? Несколько дней назад?
— Да, уже больше недели, как мы ее схоронили. Очень мы жалели, что ты не могла быть на похоронах. Мы все ходили на кладбище, и у нас были черные банты из крепа, а у отца был креп на шляпе. И все плакали, особенно во время отпевания и когда стояли вокруг могилы, а когда могильщик стал сыпать землю и она так страшно колотилась о крышку гроба, я совсем разревелась. А Джулия просто ополоумела и стала кричать, чтобы ее похоронили вместе с матерью, и мне пришлось увести ее. А потом дома был поминальный обед.
— Ох, Дженни, какое горе! Наша бедная мама ушла от нас навсегда! Расскажи мне, как она умирала. Тихая была кончина? Она не очень страдала?
— Да что тут рассказывать-то. Матери стало плохо почти тут же, как ты от нас ушла. Она мучилась весь день и всю ночь, просто невозможно было оставаться в доме, так она стонала и кричала, — мурашки по телу бегали.
— А потом?
— Ну а потом родился ребенок. Он родился мертвый, а маменька умерла от слабости. От упадка сил, сказал доктор.
Эстер зарылась лицом в подушку. Дженни примолкла; мало-помалу на ее грубоватом, простонародном лице — типичном лице подростка из лондонского предместья — появилось озабоченное недовольное выражение.
— Послушай, Эстер, ты же можешь поплакать, когда я уйду. У меня времени мало, а я еще должна поговорить с тобой о деле.
— Ах, Дженни, зачем ты так! Скажи мне, отец не обижал мать?
— Да он не очень-то о ней беспокоился, почти все время сидел в кабаке. Сказал, что не может жить в доме, где женщина вопит, как зарезанная. Приходила соседка помочь матери, а под конец позвала доктора…
Эстер смотрела на сестру, из глаз ее струились слезы. Женщина, лежавшая на другой койке, высказала свое суждение по поводу того, как глупо поступают некоторые бедняки, оставаясь рожать дома: «Дома, да еще когда муж — пьяница, а в нынешнее-то время они почитай что все такие».
В эту минуту младенец проснулся и потребовал грудь. Крошечные губки ухватили сосок, маленькая ручка уперлась в округлую белую плоть, и на мгновение в глазах Эстер появилось то просветленное выражение нежной заботы, которое придавал Рафаэль устремленному на младенца взгляду своих мадонн. Дженни с интересом разглядывала жадно сосущий маленький ротик, но мысли ее были полны тем главным, что привело ее к сестре.
— Он очень здоровый с виду, твой малыш.
— Да, он и в самом деле здоровый, ничего-то у него не болит, ни на что-то он не жалуется. Ни у одной матери нет сыночка лучше моего. Но бедная наша мама! Дженни, подумай о нашей бедной маме!
— Я думаю о ней, Эстер. Но не могу же я не глядеть на твоего ребенка. Он похож на тебя, Эстер. У него такое же выражение глаз. Только я, мне кажется, нипочем не стала бы обзаводиться ребенком — слишком дорогое удовольствие для того, кто беден.
— Бог даст, мой ребенок ни в чем не будет терпеть нужды, пока я в силах работать на него. А для тебя, Дженни, моя судьба — хороший урок. Я надеюсь, ты всегда будешь порядочной девушкой и не собьешься с пути. Обещай мне.
— Обещаю.
— Теперь, когда бедной маменьки не стало, а отец вечно пьян, у нас дома будет еще хуже, чем прежде. Ты, Дженни, старшая и должна приглядывать за малышами и, как только сумеешь, удерживать отца от пьянства. Меня с вами не будет. Я, как только поправлюсь, должна устроиться на место.
— Вот затем я к тебе и пришла. Отец собрался уехать в Австралию. Англия ему опостылела, работу на железной дороге он потерял, ну и решил уехать. Все уже устроил: но в агентстве ему сказали, что нужно уплатить по два фунта с головы, а для такой семейки, как наша, это, сама понимаешь, куча денег. Так что, похоже, меня хотят бросить здесь. Отец говорит, что я уже большая, сама могу о себе позаботиться. Вот если я раздобуду денег и уплачу за себя, тогда он не прочь меня взять, а без денег — нет. Ну, я и пришла к тебе.
Значит, Дженни пришла просить у нее денег. Но Эстер не могла ничего ей дать, и она задумалась над тем, как внезапно все это произошло: вот она уже остается совсем одна без семьи. Эстер не знала, где находится Австралия, но ей смутно припомнилось, как кто-то говорил, что добираться туда надо месяцами. Значит, теперь все близкие покидали ее: они поплывут на большом корабле по большому морю и с каждым днем будут уплывать от нее все дальше и дальше. Она ясно увидела перед собой этот корабль; от махающих рук и развевающихся носовых платков он казался каким-то живым существом… Она видела их всех там на палубе — Дженни, Джулию и маленькую Этель. Но вот корабль вышел из гавани, и она перестала различать их лица; вскоре он был уже далеко среди широкого водного простора — и его летящие паруса стали не больше крыла чайки; еще немного, и это уже едва заметная точка на горизонте — она мелькнула в последний раз и скрылась.
— Почему ты плачешь, Эстер? Я никогда не видала, чтобы ты плакала. Прямо даже не верится.
— Я очень ослабела. Смерть маменьки разбила мне сердце, а теперь еще, оказывается, я никого из вас больше не увижу!
— Это, понятно, тяжело. Нам тоже жуть как будет тебя не хватать. Но я тебе о чем толкую: отец не возьмет меня с собой, если я не раздобуду двух фунтов.
Ты же не захочешь, чтобы я осталась здесь одна, всеми брошенная, правда, Эстер?
— Я не могу дать тебе денег, Дженни. Отец и так забрал у меня слишком много. Не знаю, как сама-то перебьюсь. У меня осталось всего четыре фунта. Я не могу отдать деньги и отнять их у моего ребенка. Одному богу известно, как мы будем жить, пока я не устроюсь на работу.
— Да ты уже почти совсем поправилась. Но раз ты не можешь мне помочь, значит, ничего не поделаешь. Только куда я теперь денусь? Отец не возьмет меня с собой, если я не раздобуду денег.
— Ты говоришь, агентство требует по два фунта за каждого?
— Ну да.
— А у меня четыре фунта. Если бы не малыш, мы могли бы поехать обе; мне кажется, они не должны брать денег за грудного ребенка.
— Не знаю. А что скажет отец? Ты же знаешь, какой он.
— Это верно, он меня не захочет взять, я ему не родная. Но, Дженни, дорогая, как ужасно остаться совсем одной. Бедная мама умерла, и вы все уезжаете в Австралию, и я никогда вас больше не увижу.
Беседа оборвалась. Эстер переложила ребенка к другой груди, а Дженни напряженно думала, что сказать такое, что помогло бы склонить сестру исполнить ее просьбу.
— Если ты не дашь денег, меня бросят здесь. Не везет же мне, — говорят, в Австралии девушка может очень хорошо устроиться. Не знаю, что со мной будет, если я останусь здесь.
— Тебе надо поступить в прислуги… Мы тогда будем с тобой видеться иногда. Жалко, что ты не умеешь стряпать, тебе бы легче было подыскать себе место.
— Я ничего не умею делать, кроме собачек, а этими собачками я уже сыта по горло.
— Ты можешь наняться прислугой куда-нибудь в меблированные комнаты.
— В меблированные комнаты? Нет уж, спасибо. Ты сама знаешь, что это за работа. Удивляюсь, зачем ты мне такое предлагаешь.
— Так что же ты думаешь делать?
— Может, попробую устроиться статисткой в пантомиму, если возьмут.
— Ох, Дженни, не делай этого! Ты же знаешь, театр — греховное занятие, нам же всегда так говорили.
— Ну и черт с ним, что греховное! Стану я слушать, что там разные ваши Братья-святоши говорят!
— Ладно, не хочу с тобой спорить, сил у меня нет, и для молока плохо. — Помолчав, Эстер вдруг добавила, словно разговор этот навел ее на какие-то мысли: — Я надеюсь, Дженни, что ты не наделаешь глупостей, — мой пример должен уберечь тебя. Ты всегда будешь порядочной девушкой, верно?
— Буду, если не собьюсь с пути.
— Как ты можешь говорить такое, едва схоронили нашу бедную маму!
Дженни так и подмывало сказать: «К лицу ли тебе с незаконным ребенком на руках читать мне проповедь», — но, зная горячий нрав Эстер, она воздержалась от таких рискованных слов и сказала только:
— Я не говорю, что вот прямо сегодня вечером побегу на панель, но только одинокой девушке в Лондоне, хочешь не хочешь, легко сбиться с пути, особенно когда ее и поддержать-то некому.