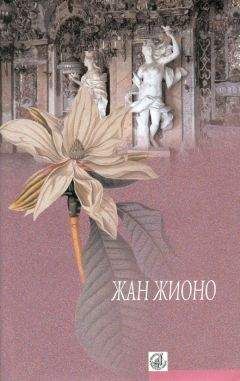Мне кажется, я вижу ее, вижу, как она отступила назад, чтобы убедиться, как красиво смотрятся на коробках этикетки.
О сигарах он мне говорил еще в Гренобле, в ресторане со страусиными перьями, когда он эту Дельфину и знать не знал. Главная инспекторша! Что она там инспектировала?
А взрывы в карьере, там, на перевале, начались задолго до того, как мы поехали в Гренобль. Но могла ли я знать, что Ланглуа прислушивался к ним больше, чем к чему-либо другому? В то время, когда он ехал со мной в дилижансе, разве могла я что-нибудь знать о его сомнениях?
Вы можете сказать: «Ты выбрала Дельфину и сама выбрала свое место. Посмотри вон на госпожу Тим и на прокурора: с того момента они стали держаться от тебя на почтительном расстоянии.
Все так. Но с прокурором и с госпожой Тим мы хоть и могли ходить под ручку, но все-таки были по разные стороны баррикады.
Я дурно воспитана. Я не умею вовремя уходить, даже если речь идет об уважении. И потом, уважение… разве уважают тех, кого любят?
А своего места я не выбирала. Я не считаю, что это выбор, когда человек вынужден принимать решение в силу сложившихся обстоятельств, ведь мне тогда стукнуло семьдесят лет. Именно стукнуло, да еще как.
Это я выбрала Дельфину, тут я согласна.
И я знаю: это была женщина, не способная видеть в коробке сигар что-то иное, кроме коробки сигар. Я должна была догадываться об этом. И я не просто догадывалась. Я знала это.
Упрекнуть ее ни в чем я не могу, как не могла упрекнуть и ее горничную, фартук которой был безукоризненно белым и даже слегка накрахмаленным, с очаровательными ленточками позади гофрированной оборки. Неужели вы думаете, что я и этого не знала? Этого нельзя было не видеть!
В чем можно упрекнуть Дельфину? Она не была «вышивальщицей». Ни в малейшей степени. Разве не согласилась она самым любезным образом жить в стенах, побеленных известкой, иметь в качестве всей мебели кровать и два стула. Даже льняную штору, подарок госпожи Тим, Ланглуа велел снять и убрать в шкаф.
Разве не довольствовалась она столом и двумя стульями в их так называемой столовой? И зеркалом, которое Ланглуа поставил на камин со словами: «Тебе, конечно, захочется иногда полюбоваться собой», а в зеркале отражались стены, оштукатуренные известкой.
Разве не выглядела она достойной ему парой, когда они вдвоем ездили в гости к госпоже Тим? И разве не поняла она, что ходить среди красот Сен-Бодийо надо молча, особым шагом, словно под красивую музыку?
Была ли она тем, что он хотел? Она была именно такой, какую он хотел.
Когда я пришла к ним с вязанием в руках и села, она спросила:
— А что это вы делаете?
Я ответила:
— Ничего. Делаю одну петлю, другую, третью, делаю просто петли…
— А что получится потом: чулок, свитер?
— Нет, — отвечала я, — ничего. Я просто делаю петли одну за другой, одну к другой. Чтобы не сидеть сложа руки. Может, это будет кашне, может, шарф или покрывало, в зависимости от того, сколько времени мне надо будет занимать чем-то пальцы. Я заранее ничего не придумываю.
Вечера проходили мирно, один за другим. Ланглуа, как всегда, открывал коробку с сигарами, брал одну и шел покурить в конец сада. Сквозь оконное стекло был виден красный огонек зажженной сигары, перемещавшийся взад и вперед. Ночи были темные, отчего едва можно было различить форму гор, на фоне которых медленно передвигающийся огонек сигары смотрелся, как фонарик экипажа, едущего через леса и долины, по гребням и вершинам; потом гора неожиданно пропадала, и экипаж уезжал как ни в чем не бывало, без всякого фона, в темно-серой ночи.
Время от времени я отрывала глаза от работы, чтобы посмотреть, как обстоят дела с его дальним странствием, потом продолжала нанизывать петлю за петлей этого кашне, а может быть шарфа, или покрывала, или — всё, хватит… Мне ничего не надо было. И ему тоже. Так что, форма!..
* * *
Мы-то очень хорошо помним, черт побери, ту пору.
Верно — были сигары!
Но мы говорили себе: «Это он, наверное, в честь своей дамы. Ведь многим молодым женщинам трубка бывает неприятна. В первое время после женитьбы всегда идут на уступки. Пожилые мужья всегда рады сделать что-нибудь приятное после женитьбы, без особого усилия. Потом все устраивается само собой». Мы решили: «Он вернется к своей трубке».
Но как только выпал первый снег (не очень сильный осенний снег, который выпал 20 октября. Он был не больше двух пальцев толщиной. Хотя этого оказалось вполне достаточно, чтобы все побелело, стало даже более белым, чем когда выпадает толщиной в метр. Этот первый снег блестит, как соль), Ланглуа пришел к Ансельмии.
На следующий после этого день у нее побывало, наверное, человек пятьдесят, целый день народ шел и шел.
Мы у нее спрашивали:
— Ну расскажи. Что он тебе сказал? Что делал?
— Он пришел, — отвечала она.
И ничего, кроме этого «он пришел», вытянуть из нее было нельзя.
Дура-баба, что и говорить!
Через несколько часов кое-что узнать все же удалось. Так вот, выпал первый снег. Все вокруг сделалось белым-бело. Ланглуа пришел к Ансельмии. В дом не вошел. Открыл дверь и крикнул:
— Ты дома?
— Конечно, дома, — отвечала Ансельмия.
— Иди сюда, — сказал Ланглуа.
— А зачем? — спросила Ансельмия.
— Не спорь, иди, — сказал Ланглуа.
— Сейчас, только брошу лук в суп, — отвечала Ансельмия.
— Скорее, — сказал Ланглуа.
— Голос у него был такой, — рассказывала Ансельмия, — что я тут же бросила свой лук и поспешила к нему.
— А какой голос? — спросили мы. — Говори. Приедет прокурор, сама знаешь. Он тебя заставит говорить.
— Ладно, чего от меня хотите, — сказала Ансельмия. — Сердился он, вот и все!
— Ланглуа?
— Да, голос у него был сердитый.
— Ладно. Значит, ты вышла, и что, он был сердитый?
— Да нет, совсем не сердитый!
— Как он выглядел?
— Как всегда.
— Не больше?
— Что не больше? Да нет, как всегда.
— Он не был похож на сумасшедшего?
— Он? Да вы что? Сумасшедшего? Ничего подобного! Нет и еще раз нет, у него был вид как всегда.
— И не злой был вид?
— Да нет же. Говорю вам: как всегда. Вы ведь знаете, у него всегда был вид не очень веселый. Вот он и не был веселым. Был вежливый, а то как!
— Ладно. А что он сказал?
— Он сказал мне: «У тебя гуси есть?» Я отвечаю: «Есть гуси; а зачем?» — «Принеси мне одного». Я говорю: «Они не очень жирные». А он настаивает. Ну, я говорю: «Тогда пошли». Зашли мы в сарай, поймала я одного.
Тут она умолкает. Мы ее теребим:
— Ну давай же, рассказывай дальше.
— Ну и вот, — говорит Ансельмия… — Это все.
— Как все?
— Так. Все. Он говорит мне: «Отруби ему голову». Я взяла секач и отрубила голову гусю.
— Где?
— Что где? На колоде, известное дело.
— А где была колода?
— За сараем, где же еще.
— А что делал Ланглуа?
— Стоял в стороне.
— Где?
— За сараем.
— На снегу?
— О, так снегу-то мало было.
— Да говори же ты, — продолжаем мы ее теребить.
— Да ну вас, надоели, — сказала она. — Говорю же я вам, что это все. Раз я вам говорю, что все, значит это все, чего вам еще надо. Он говорит: «Дай». Я и дала ему гуся. Он взял его за лапы. И стал смотреть, как кровь вытекает на снег. Потом, немного погодя, вернул его мне. И говорит: «На, возьми. И уходи». Ну, я и пошла с гусем в дом. Подумала: «Он, наверно, хочет, чтобы я его ощипала». Ну, я и стала ощипывать. Когда ощипала, посмотрела, а он стоит все на том же месте. Не сдвинулся ни на шаг. Смотрит под ноги, на кровь гуся. Я говорю ему: «Я ощипала, господин Ланглуа». Он не ответил и даже не пошевельнулся. Я подумала: «Не глухой же он, слышал тебя. Когда захочет, тогда придет и возьмет». И стала опять варить суп. Смотрю, уже пять часов. Стало смеркаться. Выхожу я за дровами. А он все там же стоит. Я опять ему сказала: «Я ощипала, господин Ланглуа, можете его забрать». А он ни с места. Тогда я опять вошла в дом, чтобы взять гуся и отдать его ему, а когда вышла, его уже не было.
Вот что он, по-видимому, сделал. Вернулся к себе и до ужина не выходил. Дождался, когда Сосиска возьмет в руки свое вязание, а Дельфина сядет, сложив руки на коленях. Как всегда, открыл коробку с сигарами и вышел в сад покурить.
Только вот закурил он в тот вечер не сигару, а взрывной патрон с динамитом. И когда Дельфина с Сосиской увидели в саду, как обычно, огонек, был он не огоньком сигары, напоминающим фонарь экипажа, а тлеющим фитилем.
И вот в глубине сада вспыхнуло огромное золотое пламя, осветившее на секунду ночную тьму. То голова Ланглуа разлетелась во все стороны и стала размером со Вселенную.
Кто сказал: «Король без развлечений — несчастнейший из людей»?
Маноск,