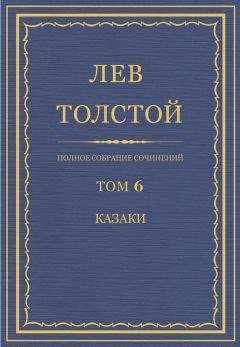— Что ж, больно было? — спросил Оленин. — Ванюша, скоро ли? — прибавил он.
— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Чтò ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.
— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.
— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь всё льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...
— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.
— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.
— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.
— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.
— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.
— Зажило, да пулька всё тут. Вот пощупай. — И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.
— Вишь ты, так и катается, — говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. — Вот к заду перекатилась.
— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.
— А Бог его знает! Дохтура нет. Поехали.
— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.
— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На чтò теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.
— Ну, полно вздор говорить, — сказал Оленин. — Я лучше из штаба лекаря пришлю.
— Вздор! — передразнил старик. — Дурак! дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна всё фальчь.
Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что всё было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.
— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.
— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он мирщился, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю всё: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в избушке в сеть запрятал: знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так чтò бишь я говорил, —продолжал он. — Ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, всё на бугор ездил, как-то чудно холком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся! То-то глупость! Идут сердечные все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой. — Что бы в стороны разойтись да по одному? Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.
— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, —сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням.
Старик сидел на полу и не вставал.
— Так разве прощаются? Дурак, дурак! — заговорил он. — Эх-ма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. Нелюбимый ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:
Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!
Так-то и ты.
— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.
Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел итти.
— Мурло-то, мурло-то давай сюда.
Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.
— Я тебя люблю. Прощай!
Оленин сел в телегу.
— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари чтò на память, отец мой. Флинту-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.
Оленин достал ружье и отдал ему.
— Чтò передавали этому старику! — ворчал Ванюша: — всё мало! Попрошайка старый. Всё необстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.
— Молчи, швинья! — крикнул старик смеясь. — Вишь, скупой!
Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.
— Лa филь![33] — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.
— Пошел! — сердито крикнул Оленин.
— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерошка.
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ(1852—1862)
* I. [ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОВЕСТИ].[34]
Прошло два года съ тѣхъ поръ, какъ Кирка бѣжалъ въ горы. Въ станицѣ ничего не знали про него. Говорили, что въ прошломъ году видѣли его между абреками, которые отбили табунъ и перерѣзали двухъ казаковъ въ сосѣдней станицѣ; но казакъ, разсказывавшій это, самъ отперся отъ своихъ словъ. Армейскіе не стояли больше въ станицѣ. Слышно было, что Ржавской выздоровѣлъ отъ своей раны и жилъ въ крѣпости на кумыцкой плоскости.
Мать Кирки умерла и Марьяна съ сыномъ и нѣмой одна жила въ Киркиномъ домѣ.
Былъ мокрый и темный осенній вечеръ. Съ самаго утра лилъ мелкій дождикъ съ крупою. Дядя Ерошка возвращался съ охоты. Онъ ранилъ свинью, цѣлый день ходилъ и не нашелъ ее. Ружье и сѣть, которую онъ бралъ съ собою, оттянули ему плечи, съ шапки лило ему зa бешметъ, ноги въ поршняхъ разъѣзжались по грязи улицы. Собаки съ мокрыми поджатыми хвостами и ушами плелись за его ногами. Проходя мимо Киркиной хаты и замѣтивъ въ ней огонекъ, онъ пріостановился. «Баба!» крикнулъ онъ, постукивая въ окно.—Тѣнь прошла по свѣту и окно поднялось. «И не скажетъ, какъ человѣкъ», сказала Марьяна, высовываясь въ окно.
«Легко ли, въ такую погоду ходишь». — «Измокъ, мамочка. Поднеси. А? Я зайду».
Баба ничего не отвѣчала и судя по этому молчанію Ерошка вошелъ къ ней. Казачки уже сбирались спать. Нѣмая сидѣла на печи, и, тихо раскачивая головой, мѣрно мычала. Увидавъ дядю Ерошку, она засмѣялась и начала дѣлать знаки. Марьяна стелила себѣ постель передъ печкой. Она была въ одной рубахѣ и красной сорочкѣ, (платкѣ) повязывавшемъ ея голову. Она теперь только, казалось, развилась до полной красоты и силы. Грудь и плечи ея были полнѣе и шире, лицо было бѣло и свѣже, хотя тотъ дѣвичій румянецъ уже не игралъ на немъ. На лицѣ была спокойная серьезность. Курчавый мальчишка ея сидѣлъ съ ногами на лавкѣ подлѣ нея и каталъ между голыми толстыми грязными ноженками откушенное яблоко. Совсѣмъ то же милое выраженіе губъ было у мальчика, какъ у Кирки. Въ старой высокой хатѣ было убрано чисто. На всемъ были замѣтны слѣды хозяйственности. Подъ лавками лежали тыквы, печь была затворена заслонкой, порогъ выметенъ... Пахло тыквой и печью. Марьяна взяла травянку и вышла сама за чихиремъ. Ерошка снялъ ружье и подошелъ къ мальчику. «Что, видалъ? сказалъ онъ, подавая ему на ладони фазанку, которая висела у него зa спиной. Мальчишка, выпучивъ глаза, смотрѣлъ на кровь, потомъ осмѣлившись взялъ въ руки голову птицы и стащилъ ее къ себѣ на лавку. «Куря!» пропищалъ онъ: «Узь! узь! — «Вишь, охотникъ! Какъ отецъ будетъ, узь, узь!» поддакивалъ старикъ. Нѣмая, свѣсившись съ печи, мычала и смѣялась. — Марьяна поставила графинъ на столъ и сѣла. «Что, дядя, пирожка дать что-ли, или яблокомъ закусишь?» и, перегнувшись подъ лавку, она достала ему яблокъ пару. — «Пирожка дай! Може, завтра найду его, чорта, свѣжина у насъ будетъ, баба». Марьяна сидѣла, опершись на руку, и смотрѣла на старика; на лицѣ ея была кроткая грусть и сознаніе того, что она угащиваетъ старика. — «Сама пей! нѣмая, пей»! закричалъ старикъ. Нѣмая встала и принесла хлѣба, тоже съ радостью и гордостью [смотрѣла] какъ ѣлъ старикъ. Марьяна отпила немного, старикъ выпилъ всю чапуру. Онъ старался держать себя кротко, разсудительно. — «Что же, много чихиря нажали»? — «Да слава тебѣ Богу, 6 бочекъ нажали. Ужъ и набрались мы муки съ нѣмой, все одни да одни, нагаецъ ушелъ». — «А ты вотъ продай теперь, свези да хату поправь». — И то хочу везть на Кизляръ. Мамука повезетъ. — «И хорошо, добро, баба. А вотъ что, ружье то отдай мнѣ, мамочка, ей Богу. На что тебѣ?» — «Какъ, какое ружье?» сердито закричала Марьяна: а этотъ выростетъ». (Мальчишка упалъ и заплакалъ.) «Разстрѣли тебя въ сердце!» и Марьяна вскочила и поднявъ его посадила на кровать. «А его ружье, вотъ эту», сказалъ Ерошка. — «Какъ же! легко ли, а ему то чего?» — «И выростетъ, так отъ меня все останется. Такъ что же?» Марьяна замолчала и опустила голову и не отвѣчала.