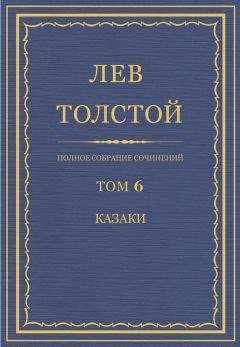Ерошка покачалъ головой и стукнулъ по столу чапуркой. «Все думаетъ да думаетъ, все жалѣетъ. Эхъ, дурочка, дурочка! Ну что тебѣ? Баба королева такая, да тужить. Пана что отбила? Развѣ онъ худа тебѣ хотѣлъ?» — «Дурно не говори, дядя, ты старикъ», сказала Марьяна. «Хоть бы узнала про него, живъ онъ, нѣтъ»; и она вздохнула. — «И что тужишь? Это, дай за рѣку пойду, я тебѣ все узнаю, только до Ахметъ-Хана дойти. Принеси чихирю, бабочка! что, вотъ выпью да и спать пойду. Что, живетъ небось въ горахъ, да и всё. Може женился. Эхъ, малый хорошъ былъ! И мнѣ жалко другой разъ, хоть бы самъ пошелъ къ нему. Слава есть: джигитъ! Вы что, бабы». Марьяна вышла за виномъ еще. Ерошка подошелъ къ нѣмой и сталъ играть съ ней. Она мычала, отбивалась и указывала на небо и его бороду, что грѣхъ старику. Онъ только смѣялся. Ерошка сидѣлъ бы до утра, ежели бы Марьяна не выгнала его. Пора было спать. Старикъ вышелъ изъ сѣней, перелѣзъ черезъ заборъ и отперъ свою хату. Онъ захватилъ тряпку съ огнемъ и эажегъ свѣчу. Онъ разулся и сталъ вытирать ружье. Въ комнатѣ было грязно, безпорядочно. Но ему было хорошо; онъ мурлыкалъ пѣсню и чистилъ ружье.
Прошло съ часъ, огни потухли вездѣ, и у Марьяны, мракъ непроницаемый былъ на улицѣ, дождикъ все шелъ, шак[алы] заливались около станицы и собаки отвѣчали имъ. Старикъ потушилъ свѣчу и легъ на лавку, на спину, задравъ ноги на печку. Ему не хотѣлось спать, онъ вспоминалъ, воображалъ. Что, ежели бы онъ не попалъ въ острогъ, а былъ бы офицеръ, далъ бы 30 м[онетъ] онъ бы богатъ былъ и т. д. Душенька бы его и теперь любила. Эхъ душенька, какъ бывало свѣчку зажжешь... Вдругъ: «О[тца] и С[ына] и С[вятого] Д[уха]!» послышался подъ окномъ слабый дрожащій голосъ.
Кто это? подумалъ Ерошка, не узнавая голоса. «Аминь, кто тамъ?» — «Отложи, дядя!» — Да ты кто? прогорланилъ старикъ, не вставая. Никто не отвѣчалъ, только стучали. Ерошка, размышляя, покачалъ головой, всталъ и отворилъ окно. На завалинкѣ его стоялъ человѣкъ. Онъ всунулъ голову въ окно. — «Это я, дядя!» — Кирка! О[тца] и С[ына] и С[вятого] Д[уха]! ты? Чортъ!» и старикъ засмѣялся. <«Одинъ?»—«Не, съ чеченцемъ.>— отложи скорѣй, увидятъ». — «Ну иди»! Двѣ тѣни прошли на дворъ и, отодвигая задвижку, Ерошка слышалъ шаги двухъ человѣкъ, вошедшихъ по ступенямъ. Кирка проскочилъ и самъ торопливо заложилъ дверь. Ерошка зажегъ огонь. Высѣкая, онъ при свѣтѣ искры видѣлъ блѣдно измѣненное лицо Кирки и другаго человѣка; наконецъ ночникъ запалился. Онъ поздоровался съ чеченцемъ. — Чеченецъ былъ высокій жилистый человѣкъ съ красной бородой, молчаливый и строгой. «Будешь кунакъ», сказалъ онъ: «Вашъ казакъ. Завтра уйдемъ». Кирка былъ въ черкескѣ съ пистолетомъ, ружьемъ и шашкой. Борода у него была уже большая. Онъ былъ блѣденъ и все торопилъ Ерошку запереть дверь. «Ты ложись тутъ», сказалъ онъ, указывая первую комнату чеченцу, а самъ вошелъ въ хату. — «Не придетъ никто къ тебѣ? А?» спросилъ Кирка: «а то, чтобы не видали».
— «Да ты что? скажи. Не пойму. Ты какъ пришелъ, чортъ? совсѣмъ что ли?» спросилъ Ерошка.
— «Вотъ посудимъ. Гдѣ совсѣмъ! Развѣ простятъ? Вѣдь офицера то убилъ».
— «Ничего, ожилъ».
— «Эхъ! и послѣ того много дѣловъ есть. Да ты чихиря дай, есть что ли? Эхъ, родные! все также у васъ то, все также?»
— «Къ бабѣ пойду, твоя хозяйка то жива, — у ней возьму! Я скажу, что Звѣрчикъ велѣлъ».
— «Ты ей, бляди, не говори. Охъ, погубила она меня. Матушка померла?»
— Да.
Ерошка пошелъ зa виномъ. Кирка разговаривалъ съ чеченцомъ. Онъ просилъ водки. Водка была у Ерошки. Чеченецъ выпилъ одинъ и пошелъ спать. Они говорили, какъ отпустилъ наибъ Кирку. Ерошка п[ринесъ?] то [?]. Кирка выпилъ двѣ чапуры.
Ерошка: «Ну зачѣмъ пришелъ? еще начудесишь».
— «Нѣтъ, завтра повижу и уйду. Могилкамъ поклонюсь. Она стерва».
Ерошка: «Она не виновата. Офицеръ просилъ, замужъ брать хотѣлъ, она не пошла».
Кирка: «Все чортъ баба, все она погубила; кабы я и не зналъ, ничего бы не было». Онъ задумался: «Поди, приведи ее, посмотрѣлъ бы на нее. Какъ вспомню, какъ мы съ ней жили, посмотрѣлъ бы».
Ерошка: «А еще джигитъ: бабѣ хочетъ повѣриться».
Кирка: «Что мнѣ джигитъ. Погубилъ я себя; не видать мнѣ душеньки, не видать мнѣ ма[тушки]. Убьемъ его? право? Убью, пойду — паду въ ноги». — Пѣсню поетъ. — «Что орешь?» — A мнѣ все равно. Пущай возьмутъ, я имъ покажу, что Кирка значитъ. — «Да завтра уходи». — Уйду. Федьку зарѣжу, Иляску зарѣжу и уйду. Помнить будутъ.
Ерошка: «Каждому свое, ты дурно не говори, тебѣ линія выпала, будь молодецъ, своихъ не рѣжь, что, чужихъ много».
«Я къ бабѣ пойду». — «Пойди!» и опять пѣсню.[35]
Мар[ьяна]: «Д[ядя] Е[рошка] отложи». — Чего? — «Ты отложи, я видала». — Что врешь, никого нѣтъ. — «Не отложишь, хуже будетъ». Кирка: «Пусти!» Марьяна вошла въ хату, прошла два шага и упала въ ноги мужу.
Кирка ничего не говорилъ, но дрожалъ отъ волн[енія].
— «Станичный идетъ съ казаками!» крикнулъ Ерошка, смотрѣвшій въ окно. Чеченецъ и Кирка выскочили и побѣжали. Кирка выстрѣлилъ въ Ерошку по дорогѣ, но не попалъ. Ерошка засмѣялся. Никто не шелъ, Ерошка обманулъ ихъ, не ожидая добра отъ этаго свиданья. —
На другой день дядя Ерошка провелъ утро дома. Марьяна блѣдная пришла къ нему. «Слыхалъ? Кирку въ лѣсу видали; Чеченцы изрубили казака». Вечеромъ самъ Поручикъ [?] видѣлъ Кирку, онъ сидѣлъ на бревнахъ и пѣлъ. Вечеромъ поѣхали искать, видѣли слѣды. На 3-й день былъ праздникъ.
Часовня была полна народа; бабы въ платкахъ, уставщикъ въ новомъ армякѣ, по крючкамъ, старухи, тихо, Марьяна стояла въ углу, вошелъ казакъ и сталъ скр[омно?], одѣтъ странно. Одна баба, другая, до Марьяны дошелъ шопотъ, она оглянулась: Кирка! «Онъ, отцы мои!» Въ то же время два казака сзади подошли, схватили; онъ не отбивался. Les yeux hagards![36]
Письмо. Я вчера прiѣхалъ, чтобы видѣть страшную вещь. Кирку казнили. Что я надѣлалъ! и я не виноватъ, я чувств.....
Глава.
Господа, вернувшись съ охоты, сидѣли въ своей хатѣ и не посылали за Ерошкой. Даже Ванюшѣ было приказано не говорить съ старикомъ и не отвѣчать ему, ежели онъ станетъ что-нибудь спрашивать. Первый выстрѣлъ сдѣлалъ Олѣнинъ, и съ того мѣста по всему слѣду была кровь. Второй выстрѣлъ, когда свинья уже остановилась, сдѣлалъ Ерошка. Правда, что она упала, но ползла еще, и послѣднiй выстрѣлъ изъ двухъ стволовъ сдѣлалъ новопрiѣзжiй гость. Стало быть, ни въ какомъ случаѣ свинья не принадлежала одному Ерошкѣ и онъ не имѣлъ никакого права, никому не сказавши, привязать ее хрюкомъ за хвостъ маштачку, прежде другихъ увезть ее въ станицу, опалить и свѣжевать, не давъ времени охотникамъ вернуться и полюбоваться на раны и поспорить. По предложенiю Оленина всѣ решились наказать Ерошку за такой поступокъ совершеннымъ равнодушiемъ и невниманiемъ. Когда охотники прошли по двору, въ то время какъ дядя свѣжевалъ звѣря, ихъ молчанiе не поразило его. Онъ объяснилъ его себѣ сознанiемъ его правоты съ ихъ стороны. Но когда онъ, соскучившись быть одинъ, съ окровавленными еще руками и растопыренными толстыми пальцами, вошелъ въ хату и, показывая расплюснутую въ лепешку свою пулю, которую онъ вынулъ изъ грудины, попросилъ выпить, его озадачило, что никто ему не отвѣтилъ. Онъ хотѣлъ разсмѣшить ихъ колѣнцомъ, но всѣ присутствующiе выдержали характеръ, онъ засмѣялся одинъ, и ему больно стало.
— «Что жъ, свинью ты убилъ, дядя», сказалъ Олѣнинъ: «твое счастье».
— «Что жъ чихирю не поднесешь?» сказалъ старикъ хмурясь. —
— «Ванюша, дай ему бутылку чихирю. Только ты пей въ своей хатѣ, а мы въ своей. Вѣдь ты убилъ свинью. Небось бабы какъ на тебя радовались, какъ ты по улицѣ проволокъ ее. — Ты самъ по себѣ, а мы сами по себѣ».
И онъ тотчасъ же заговорилъ съ офицерами о другомъ предметѣ. —
Ерошка постоялъ еще немного, попробовалъ улыбнуться, но никто не смотрѣлъ на него.
«Что жъ такъ то?» Онъ помолчалъ. Никто не отвѣтилъ. — «Ну, Богъ съ тобой. Я на тебя не серчаю. Прощай, отецъ мой!» сказалъ онъ съ невиннымъ вздохомъ и вышелъ.
Какъ только онъ вышелъ, Марьяна, которая тутъ же сидѣла подлѣ печки, разразилась своимъ звучнымъ увлекающимъ хохотомъ, и всѣ, кто были въ комнатѣ, захохотали также. — «Невозможно удержаться, когда она засмѣется», говорилъ прапорщикъ сквозь судорожные припадки смѣха.
Дядя Ерошка слышалъ этотъ хохотъ даже въ своей хатѣ. Онъ сердито шваркнулъ на земь сумку, которая лежала на его нарахъ, и развалился на нарахъ въ своемъ любимомъ положеньи, задравъ ноги на печку и облокотивъ голову затылкомъ на ружейный ящикъ. Когда онъ бывалъ не въ духѣ, онъ всегда колупалъ струпья, не сходившіе съ его рукъ, и теперь онъ принялся за это дѣло.