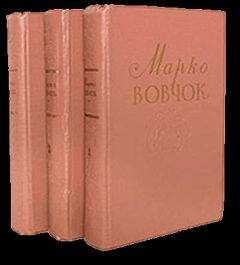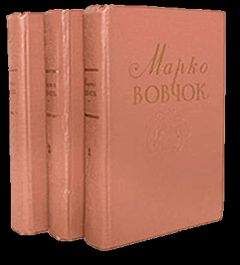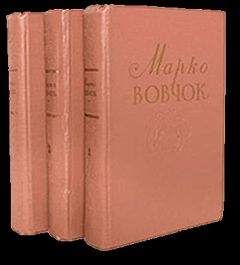Он прищурил свой черный, как вакса, глаз и, прикусывая чеснок, ответил:
— О, о, какой хозяин! хочет знать, каковы хлеба! О, о, какой разумный хлопец!
— Так хороши хлеба? — сказал я, смущаясь.
— Хороши, хороши! О, о, какой разумный хлопец!
— Откуда вы приехали? — спросил я, сам чувствуя, что маска равнодушия уже не держится, спадает и из-за нее являются во всей их силе и яркости настоящие выражения моих чувствований.
— Откуда приехали? — переспросил он, снова прищуривая глаз. — О, приехали издалека!
— Откуда?
— О, издалека, издалека!
— Скажите… скажите! — воззвал я к нему, откинув хитрости, умоляющим голосом.
— Сказать? О, о, нельзя сказать!
— Отчего нельзя? Скажите!
— О, какой разумный хлопец! Ну, слушай: ты добрый хлопец, славный, хороший! поди принеси мне охапку сена, — свежего, самого лучшего сена, — тогда я тебе скажу.
— Скажите сейчас! Я сена принесу после… Я скоро принесу!
— О, о, какой разумный хлопец! Как же можно сейчас сказать? Прежде надо сено получить, а потом сказать!
— Да я принесу! — воскликнул я отчаянно.
— Принеси, принеси! О, какой разумный хлопец! Сейчас все понимает! Разумный, разумный хлопец!
И он турил глаз и кивал мне брадою на пролесок, где складено было только что скошенное сено.
Я поспешно отправился и притащил охапку душистого подкупа.
— Откуда? — спросил я, освобождаясь от своей ноши. — Откуда приехали?
— Ай, ай! не сюда, не сюда! Не вали, не вали здесь! — зашептал он. — Увидят… В фургон снеси, в фургон.
Я снес сено в фургон и, торопливо возвратясь, опять спросил мучителя:
— Откуда?
— О, о, как мало принес! О, о, всего горсточку! И горсточки не будет! Ты добрый хлопец, ты славный хлопец, ты пойдешь, еще принесешь охапку…
— Откуда? — повторил я, удушаемый горестию и гневом. — Откуда?
— Ты добрый хлопец, ты пойди еще принеси сенца, а потом я скажу, откуда… Ну, поди, поди… о, разумный хлопец!
Но я бегом ринулся к фургону и начал таскать оттуда принесенное мною сено обратно.
— Что ты, что? — взвизгнул безжалостный израильтянин, вскакивая, подбегая ко мне и стараясь поймать меня за руки. — Ну, полно! ну, полно! ты добрый хлопец! Ай, ай! Какой сердитый! Ай, ай! Ну, я скажу! Ну, полно! Ай, ай! Мы приехали из города…
— Из какого?
Он назвал мне наш уездный городок.
— Неправда! — воскликнул я. — Неправда!
И с новою яростью принялся разметывать сено.
— Правда, правда… О, какой сердитый хлопец! О, нехорошо, нехорошо! Ай, ай, нехорошо!
В эту минуту проходящий мимо Прохор вскрикнул: — А ты откуда это сена набрал, а? Ах ты, христопродавец!
— А, Прохор! — с живейшей ласковостью ответил христопродавец. — Здравствуй, здравствуй! Как поживаешь? Здоров? Красивый ты какой стал! Ай, ай, какой красивый! Все девушки заглядываются!
— Ну, что лебезишь? — отвечал Прохор, видимо, однако, тронутый оценкой своей красоты: — Ну, что лебезишь? Ты лучше скажи, где ты это сена-то стащил?
— Красавец стал! Ай, ай, какой красавец! — продолжал израильтянин, как бы не слыша этого вопроса. — Все девушки так жмурятся, как на солнце!
— Да ты скажи, где ты сена-то… — возразил Прохор, тронутый еще глубже: — ты вот что скажи…
Я оставил их и снова углубился в лес.
Я ничего не знал!
Я сел на пень и остался неподвижен, подобно надгробной урне.
Но недолго пребывал я в этом положении: мне вдруг пришла мысль обратиться к Прохору и молить его, да выведает он у израильтянина, откуда приехал отец Еремей?
Я кинулся к фургону. Прохор еще был тут, все еще слушал сладкую лесть и все еще незлобиво требовал объяснения, откуда взято сено. Я быстро подошел к нему и тихо, прерывающимся голосом передал ему свою мольбу.
— А! вот теперь и я понадобился! А! теперь ко мне пришел! — ответил мне Прохор с укором. — А как пирог или лепешка, так….
Он не докончил укора, почувствовав отчаянное пожатие моей руки.
— Ладно, ладно, — проговорил он, видимо тронутый плачевным моим видом.
И затем, обратись к наблюдавшему за нами израильтянину, опросил:
— Ты батюшку из города вез?
— Из города, из города; он с почтовой станции пришел к нам и…
— С какой это почтовой станции?
— А с Волынки, что по полесскому тракту.
— А до Волынки доехал, значит, почтою?
— Почтою, почтою; мы видели, как и подъехал к станции.
— Прохор! — раздался, подобно торжественному благовесту, голос отца Еремея. — Прохор!
Прохор поспешно направился к иерейскому двору.
— Где еврей Мошка? — раздался вторичный благовест, но уже несравненно ближе к нам.
— Вот тут сидит, — ответил Прохор.
— Я тут! я тут, батюшка! — воскликнул израильтянин: — что батюшка прикажет? что его милости угодно?
И он, так сказать, волной переливался на одном месте, являя в лице своем всевозможные степени подобострастной угодливости.
— Тут? — спросил отец Еремей, пристально устремляя взоры свои на Мошку.
— Сейчас еду, батюшка, сейчас…
И юркий израильтянин торопливо принялся запрягать.
Вид мучителя драгоценной Насти был для меня невыносим, и при его появлении я поспешил скрыться в глубину дерев.
"Станция Волыновка! — думал я с тоскою. — По полесскому тракту! Но справедливо ли показание лукавого израильтянина?"
Скоро я услыхал стук колес и сквозь сеть ветвей мог увидать на несколько мгновений Мошкины длинные пейсы, развевавшиеся из глубины фургона.
Как изображу тебе, о читатель, последовавшее затем течение моей унылой, бесцветной жизни? Жестокий произвол, жертвами коего сделались Настя и Софроний, столь глубоко на меня подействовал, что во все мои скудные наслаждения, так сказать, влилась капля горечи и желчи.
Так, помню я, в конце этого достопамятного мне лета сидел я на берегу реки и ловил пескарей. Утро было бесподобное. С некиим глухим звоном катились прозрачно-синие воды; леса шумели, на ясную лазурь небосклона неоднократно налетала темная тучка, осыпала меня теплым крупным дождем, затем уносилась, дневное светило снова появлялось во всем своем сиянии, и с цветущих берегов, с полей, с лугов, от лесов сильнее тянуло сладостным благоуханием трав и цветов.
Помянутое животворное утро воскресило отроческое, насильственно подавленное веселие; я проворно сбросил немногосложные свои одежды и с бодрым криком ринулся в сверкающие волны.
Но едва я, погрузившись в освежающую влагу, начал рассекать резвым плаванием синюю поверхность, едва успел кинуть вокруг себя несколько веселых взглядов, уже меня, так сказать, ужалила радость отгоняющая горькая мысль:
"Да, теперь, вот в эту минуту, мне вольно и хорошо, но вдруг может прийти кто-нибудь, взять меня и… Где теперь веселая Настя? Где гордый Софроний?"
Теперь, повествуя как взрослый, я облекаю эту мысль в ясные выражения, но в то время она явилась мне смутно, — я скорее чувствовал, чем рассуждал.
Я медленно, как бы раненный, вышел из волн, оделся и, склонив голову на руки, предался столь сильной печали, что даже пролил слезы.
В одну эпоху позднейшего моего жития я знал благочестивую, но язвительную старушку, которая утверждала, будто бы меня, тотчас по благополучном моем появлении в сию юдоль плача и воздыхания, враг рода человеческого посыпал бесовской неугомонкой, да вечно мятусь по земле.
Это неугомонка не позволила мне ни захиреть в печали, ни примириться с претящими душе явлениями.
В наибезотраднейшие минуты, в порывах самой томительной горести мне ни разу не приходила даже мимолетная мысль о возможности покориться обстоятельствам. Напротив, чем невыносимей были мои страдания, тем сильнее разжигался я враждою и неукротимою страстью противоборствовать ненавистным для меня порядкам.
С каждым днем я становился угрюмее, нелюдимее, ни к кому не обращался с речами, кратко отвечал на предлагаемые мне вопросы. Меня раздражал всякий веселый возглас, я исполнялся горечью при виде беспечно играющих сверстников.
Семя ненависти, глубоко запавшее мне в душу, развивалось деятельно, пускало неисторжимые корни.
Единственным светом в этом мраке, единственною отрадою были ласки многолюбимой матери. С какою нежностию я прилегал к ее плечу в тихие темные сумерки, когда она, утомленная, окончив дневные работы, садилась отдохнуть у окна или у порога нашей хижины! Каким бальзамом были для меня немногие, но дышащие страстною заботою и беззаветною преданностию слова! Я чувствовал, я знал, что и ее изъязвленное сердце не обретает покоя, но для меня она находила и улыбку и шутку.
Жестокий рок скоро лишил меня и этой услады: скоро мрачная могила навсегда сокрыла безропотную страдалицу.
Она давно уже хворала, но никогда не жаловалась, и потому никто не беспокоился о ее недуге. Она все крепилась, все работала. Наконец ее сломило вдруг. Утром, выходя из дому, я оставил ее за домашними занятиями, но возвратясь к обеду, уже застал ее в изнеможении сидящую на лавке, приклонясь головой к стене, с полузакрытыми очами.