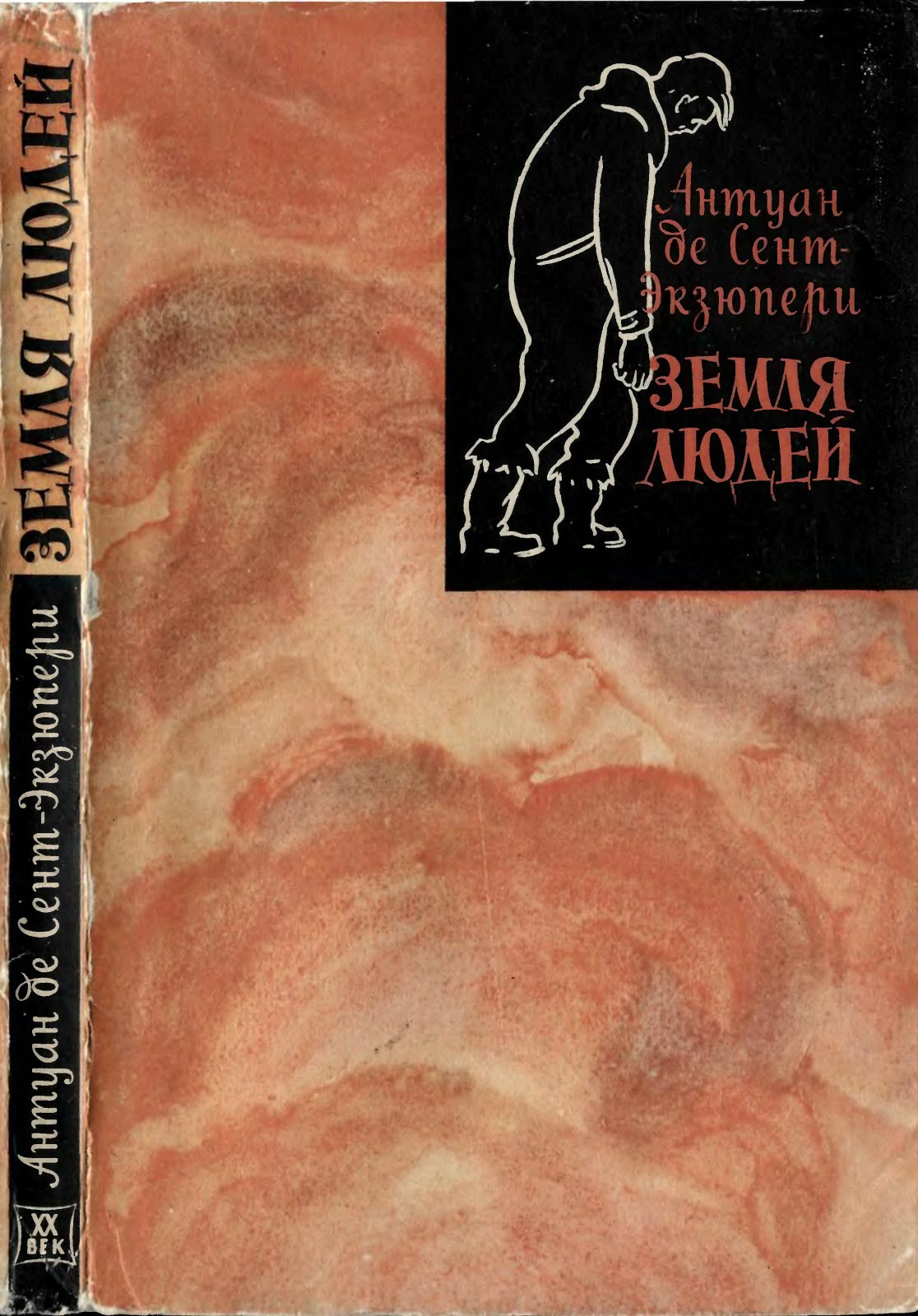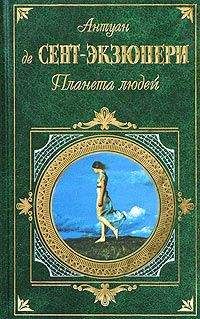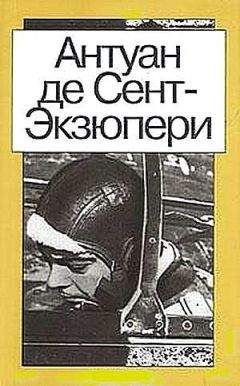ибо он тому доказательство, и торжественно, ибо он полон угрозы, и торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. Его горячее дыхание едва-едва коснулось меня. Я — последний рубеж, которого достигла волна. Будь в двадцати метрах позади меня какое-нибудь полотнище, оно и не шелохнулось бы. Ветер один-единственный раз обжег меня замирающей лаской. Но мне хорошо известно, что в ближайшие секунды Сахара переведет дыхание и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — и ветровой флаг на нашем ангаре заполощется. Не пройдет и десяти минут — и воздух будет пронизан песком. Нам предстоит подняться в это пекло, в это огненное полыхание пустыни.
Но не это волнует меня. Бурная радость наполняет меня оттого, что, подобно первобытному дикарю, по малейшим признакам догадывающемуся об ожидающей его судьбе, я понял с полуслова тайный язык пустыни, прочел ее ярость в биении крылышек стрекозы.
4
В пустыне мы соприкасались с непокорными арабами. Они появлялись из глубин недоступных районов, над которыми мы пролетали, и отваживались наведываться в форты Джуби и Сиснерос, чтобы купить сахарные головы или чай, затем их вновь окутывала тайна. А мы пытались во время этих посещений приручить кого-нибудь из них.
Если нас навещал влиятельный вождь, то, бывало, с согласия администрации, мы брали его на борт самолета, чтобы показать ему мир. Было не лишним сбить с кочевников спесь, ибо они убивали пленных не столько из ненависти, сколько из презрения к ним. Встречая нас поблизости от фортов, они даже не тратили на нас ругательств. Отворачивались и плевали в сторону. Их гордыня питалась обманчивым представлением о своем могуществе;. Сколько таких вождей, снарядивших в поход армию в триста ружей, говорили мне: «Ваше счастье, что до Франции больше ста дней пути…»
Вот мы и катали их, и вышло так, что три араба посетили незнакомую им Францию. Эти трое были людьми той же породы, что и те, которые, попав со мной однажды в Сенегал, заплакали, увидев деревья.
Когда я некоторое время спустя посетил их палатку, они восторженно говорили о мюзик-холлах, где обнаженные женщины танцуют среди цветов. Ведь это были люди, не видевшие никогда ни дерева, ни фонтана, ни розы, знавшие лишь из корана о существовании садов, где текут ручьи, ибо так сказано там о рае. За этот рай с его прекрасными пленницами нужно заплатить горькой смертью в песках от пули неверного, после тридцати лет страданий. Но бог обманывает их, раз он не требует от французов, обладающих всеми этими сокровищами, никакого выкупа — ни жажды, ни смерти. Вот почему размечтались теперь старые вожди. Вот почему, вглядываясь в Сахару, в пустыню, которая раскинулась вокруг их шатра и до самой смерти обещает лишь скудные радости, они делятся самым сокровенным.
— Знаешь… французский бог… гораздо щедрее к французам, чем бог арабов к арабам.
За несколько недель перед тем их катали по Савойе. Гид привел их к тяжелому, ревущему водопаду, напоминавшему колонну сплетенных струй:
— Попробуйте, — сказал он им.
И это была пресная вода. Вода! Сколько дней пути потребовалось бы в пустыне, чтобы добраться до ближайшего колодца, — да еще найдешь ли его! Сколько часов надо потом разрывать песок, которым он заполнен, чтобы добраться до грязной жижи, смешанной с верблюжьей мочой! Вода! В Кап-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьенне туземные дети выпрашивают не деньги, — с консервной банкой в руке они выпрашивают воду:
— Дай немного воды, дай!..
— Если будешь послушным.
Вода расценивается на вес золота; вода высекает из песка зеленую искорку — былинку травы. Стоит где-либо выпасть дождю, как в Сахаре начинается великое переселение. Целые племена отправляются за триста километров на поиски травы… И вот эта скупая вода, ни капли которой не выпало за десять лет в Порт-Этьенне, шумела в Савойе так, словно из продырявленной цистерны хлестала вся вода вселенной.
— Едем дальше! — говорил им гид.
Но они не двигались с места:
— Подожди еще…
Молча, серьезно, сосредоточенно наблюдали они за этим торжественным таинством. То, что вырывалось из недр горы, было жизнью, кровью людей. Водой, вытекавшей за одну секунду, можно было воскресить целые караваны, которые, опьянев от жажды, навсегда погрузились в бесконечность соляных озер и миражей. Здесь вещал бог: они не могли повернуться к нему спиной. Открывая шлюзы, бог проявлял свое могущество — и три араба замерли.
— Чего вы еще ждете? Идемте…
— Надо подождать.
— Подождать чего?
— Конца.
Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от своего безумства. Он раскаивается быстро, он скуп.
— Но ведь эта вода течет уже тысячу лет!..
Вот почему в этот вечер они не настаивают больше на разговоре о водопаде. О некоторых чудесах лучше не говорить. Лучше даже не слишком задумываться, не то перестаешь что-либо понимать, не то начинаешь сомневаться в боге…
— Французский бог, видишь ли…
Я хорошо знаю моих друзей — варваров. Сейчас они поколеблены в своей вере, растеряны и почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы французское интендантство снабжало их ячменем и чтобы наши войска в Сахаре обеспечивали их безопасность. Оно и верно, материально они бы выиграли, если бы покорились.
Но все три вождя — из того же теста, что и Эль Мамун, эмир Трарзы. (Возможно, я перепутал имя.)
С этим эмиром я познакомился, когда он был нашим вассалом. Добившись за свои услуги официальных почестей, одаренный губернаторами, почитаемый племенами, казалось он не испытывал ни малейшего недостатка в зримых благах. Но однажды ночью, без всякого предупреждения, он убил сопровождавших его в пустыне офицеров, захватил их ружья, верблюдов и присоединился к непокорным племенам.
Эту внезапную непокорность, это героическое и в то же время отчаянное бегство ставшего отныне изгнанником вождя, эту вспышку гордости, которая, подобно ракете, вскоре угаснет, наткнувшись на летучий эскадрон Агара, обычно называют предательством. И поражаются внезапному безумству этих людей.
А между тем история Эль Мамуна повторялась со многими арабами. Они старели. А когда стареешь, задумываешься. И однажды вечером Эль Мамун обнаружил, что, закрепляя пожатием христианских рук тот обмен, который означал для него потерю всего, — он замарал руки и предал бога Ислама.
И в самом деле, что для него ячмень и мирное житье? Падший воин, ставший пастухом, он вспоминает, что когда-то каждая складка песка в Сахаре грозила ему скрытыми опасностями, что каждый раскинутый им в ночи лагерь выставлял вокруг сторожевых, что каждое полученное у ночного костра известие о передвижениях врага заставляло биться сердце. Он вспоминает вкус открытого моря, — однажды насладившись им, человек уже не может его забыть.
И вот