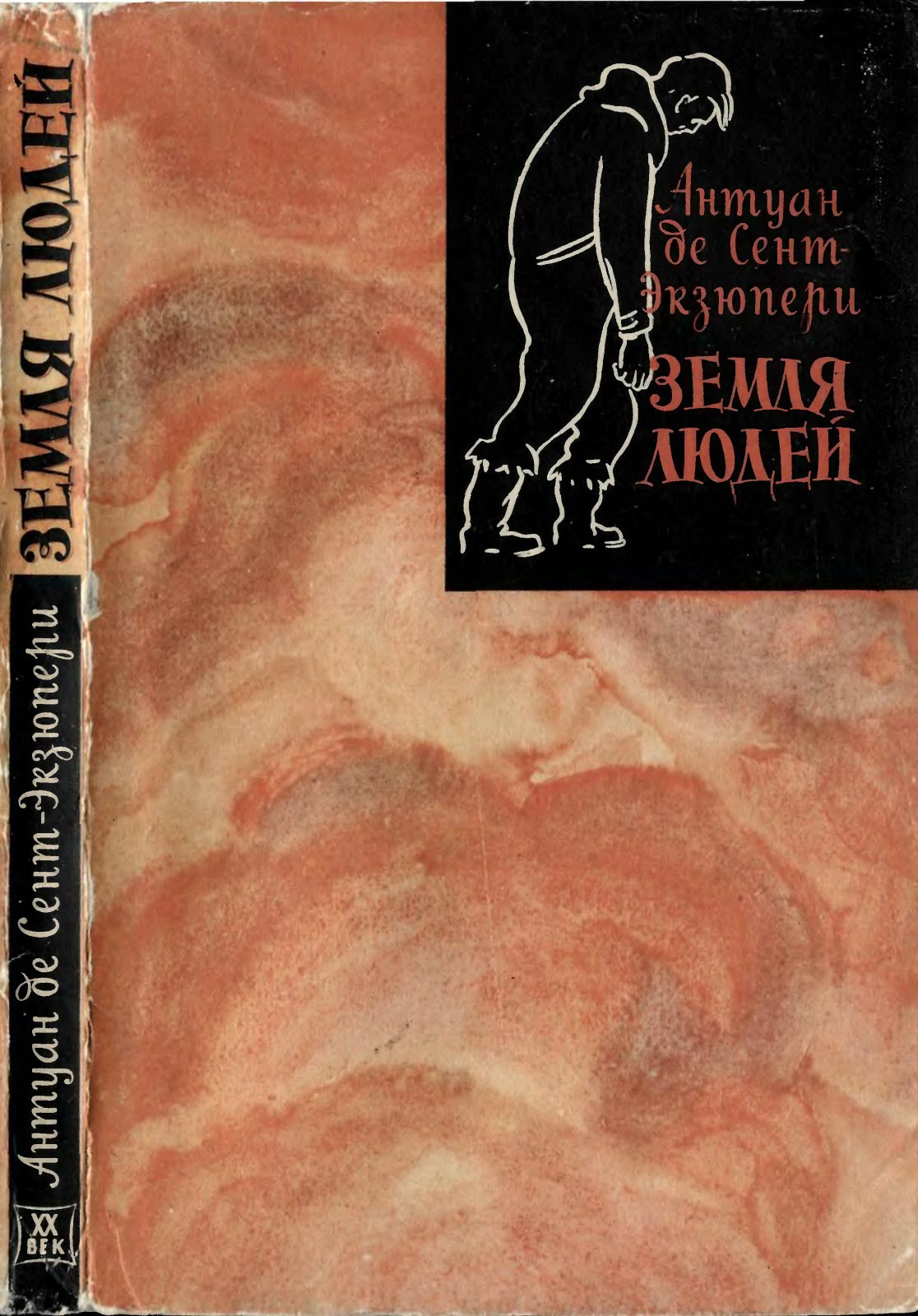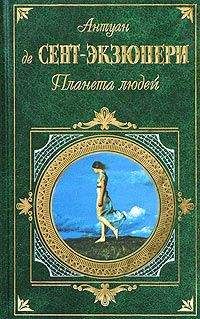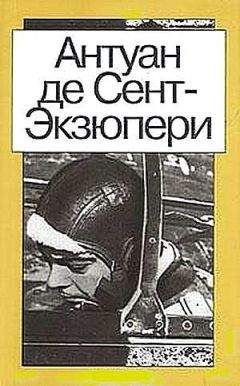в смысл этой жизни, которая, оказывается, не поглощает противника целиком. И все же им хочется верить в него:
— Он вернется, твой Боннафус!
— Не знаю.
Вернется, думают арабы. Европейские игры — гарнизонные бриджи, повышения по службе, женщины — не смогут его больше удовлетворить. Он вернется, преследуемый ощущением утраченной доблести, туда, где каждый шаг заставляет биться сердце, как шаг навстречу любви. Ему казалось, что пережитое здесь — лишь приключение, а главное ждет его там, но он откроет с отвращением, что единственными подлинными богатствами он владел здесь, в пустыне: великолепием песков в ночи, безмолвием, миром звезд и ветров. И если Боннафус когда-нибудь вернется, весть об этом в первую же ночь распространится среди всех непокорных племен. Арабы будут знать, что где-то в Сахаре среди своих арабов-пиратов спит Боннафус. И тогда молча поведут они верблюдов к колодцу. Приготовят запас ячменя. Проверят затворы. Побуждаемые этой ненавистью или этой любовью.
6
— Спрячь меня в самолете на Марракеш!
Каждый вечер в Джуби невольник арабов обращался ко мне с этой краткой мольбой. После чего, сделав все от него зависящее, чтобы обрести жизнь, он садился, скрестив ноги, и приготовлял мне чай. Доверившись, как ему казалось, единственному лекарю, способному его излечить, помолившись единственному богу, могущему его спасти, он на один день обретал покой. Теперь он мог, склонившись над чайником, перебирать в уме несложные картины своей жизни; черные марракешские земли, розовые дома, убогое имущество, которого он был лишен. Его не обижало ни мое молчание, ни то, что я так медлил вернуть ему жизнь: я был для него не человеком, таким же, как он, а силой, которую нужно привести в действие, чем-то вроде попутного ветра, способного когда-нибудь сдвинуть с места его судьбу.
А между тем я был лишь простым пилотом, назначенным на несколько месяцев начальником аэропорта в Кап-Джуби. Все мое достояние заключалось в бараке, приткнувшемся к испанскому форту, в тазе для умывания, кувшине соленой воды и чересчур короткой кровати, — больше в этом бараке ничего не было. Я не разделял его иллюзий относительно моего могущества:
— Посмотрим, старина Барк…
Всех невольников зовут Барками, звался Барком и он. Несмотря на четыре года плена, он все еще не смирился: он помнил, что был королем.
— Что ты делал, Барк, в Марракеше?
В Марракеше, где жила еще, вероятно, его жена с тремя детьми, у него было замечательное ремесло:
— Я был погонщиком скота, и меня звали Мохаммедом!
Местные каиды приглашали его к себе:
— У меня есть быки на продажу, Мохаммед. Пригони их с гор.
Или:
— У меня тысяча баранов на равнине. Отведи их повыше, на пастбища.
И вооруженный оливковым скипетром Барк управлял их переселением. Он один нес ответственность за целый народ овец. Сдерживая наиболее прытких, из-за ягнят, которые должны были появиться на свет, слегка подгоняя ленивых, он шествовал, окруженный всеобщим доверием и послушанием. Один он знал, к какой обетованной земле они шли, один он умел читать путь по звездам, полный знания, которое не дано овцам, один он устанавливал в своей мудрости час отдыха, час водопоя. И, стоя в ночи посреди спящего стада, охваченный нежностью к великой слабости стольких невежественных существ, купаясь в волнах шерсти, Барк — лекарь, пророк и царь — молился за свой народ.
Однажды к нему обратились арабы:
— Пойдем с нами на юг за скотом.
Путь их был долог, и когда через три дня они по глухой тропе углубились в горы и очутились у границ непокорных земель, его попросту схватили, окрестили Барком и продали в рабство.
Я знал и других рабов. Ежедневно ходил я пить чай в шатры к арабам. Лежа здесь с босыми ногами на пушистом шерстяном ковре — единственной роскоши кочевников, — на котором они на несколько часов возводят свой дом, я следил, как день неудержимо катится к вечеру. В пустыне ощущаешь бег времени. Под палящим солнцем держишь путь к вечеру, к свежему ветру, который омоет тело, смоет пот. Под палящим солнцем животные и люди держат путь к этому великому водопою ветра и ночи, так же неотвратимо, как к смерти. Это придает смысл даже праздности. И каждый день кажется прекрасным, как дороги, ведущие к морю.
Я знал их, этих рабов. Они входят в шатер, как только вождь вытащит жаровню, чайник и стаканы из ящика с сокровищами, из тяжелого ящика с нелепыми вещами — замками без ключей, цветочными вазами без цветов, грошевыми зеркальцами, старым оружием, — вещами, которые, будучи занесены в пески, напоминают пену кораблекрушения.
И вот безмолвный раб наполняет жаровню сухими травами, раздувает жар, наполняет чайник, играя на этой детской работе мышцами, которым по силам корчевать кедры. Он умиротворен. Он поглощен игрой: готовить чай, ухаживать за верблюдом, есть. Знойным днем двигаться к ночи, а под ледяным дыханием звезд — мечтать о палящем зное дня. Счастливы северные страны, где времена года нашептывают летом — сказание о снеге, зимой — сказание о солнце; грустно в тропиках, в этой парильне, где ничто почти не меняется; счастлива и Сахара, где день и ночь так просто перебрасывают людей от одной надежды к другой.
Иногда черный раб, присев на корточки у входа в шатер, наслаждается вечерней прохладой. В грузном теле пленника больше не всплывают воспоминания. Он уже едва помнит час похищения, удары, крики, руки людей, поваливших его, ввергших в этот мрак рабства. С того часа он погрузился в странное забытье, как бы ослеп, лишенный зрелища тихих сенегальских рек или белых домов марокканского юга, как бы оглох, лишенный звуков голоса своих близких. Он не несчастен, этот негр, он — калека. Втянутый однажды в жизнь кочевников с их переселениями, навсегда прикованный к кругам, которые они описывают в пустыне, что общего сохранил он со своим прошлым, с домом, с женой и детьми? Это прошлое для него так же мертво, как если бы его близкие действительно умерли.
Люди, долгое время жившие большой любовью, а затем лишенные ее, подчас устают от благородного одиночества. Они смиренно возвращаются к жизни и находят счастье в будничном чувстве. Они находят усладу в самоотречении, в заботах, в покое домашнего очага. Пылающая жаровня хозяина становится гордостью раба.
— Вот возьми, — говорит иногда вождь пленнику.
Это час, когда хозяин добр к рабу, оттого что спадает усталость, спадает палящий зной, оттого, что оба они бок о бок погружаются в прохладу. И он позволяет рабу взять стакан чаю. А полный признательности пленник готов целовать за этот стакан чаю колени